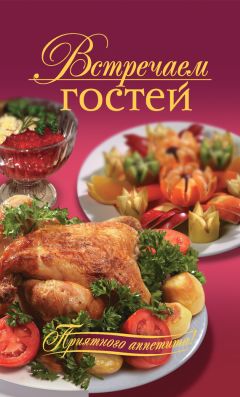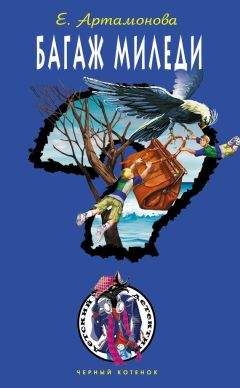Пьер Маньян - Дом убийств
Серафен сделал протестующий жест, не упуская, однако, из виду пустого кресла на противоположном конце стола, куда мысленно пытался усадить человека, которого никогда не встречал и которого собирался убить.
Взгляд Серафена задержался на поставленном напротив приборе, перед которым пока никто не сел, и в это мгновение из глубины коридора, где только что замерли звуки фортепиано, донесся энергичный перестук каблучков.
Быстрым, решительным шагом в залу вошла молодая женщина. Шуршащее шелковое платье плотно облегало гибкое тело. Черный и белый тона ее наряда напоминали выложенный черными и белыми плитками пол, по которому она ступала. У нее были круглые, близко посаженные, точно у хищной птицы, глаза, в глубине которых, казалось, таились отблески лесной чащи, а в манере себя держать сквозила, хотя и сдерживаемая, порывистость. Это явление застигло Серафена врасплох. Инстинктивно он почуял опасность, таящуюся под этой оболочкой. Никто не учил его вставать, когда в комнату входит женщина, но теперь он вскочил, так поспешно, что едва не опрокинул кресло, причем не смог бы ответить, что его к тому побудило — необходимость оказать уважение или потребность держаться начеку.
Между тем Патрис, не выпускавший изо рта сигареты, украдкой наблюдал за Серафеном, пытаясь определить, какой эффект произвело на него это появление. «Если она ему не понравится, — сказал он себе, — нашей дружбе конец», а вслух произнес:
— Моя сестра Шармен. Ее муж погиб в октябре восемнадцатого. Можешь себе представить…
Тем временем Шармен посмотрела прямо в глаза Серафену, который не успел отвести взгляд. Она чуть развела свои длинные руки и сделала что-то вроде иронического реверанса, как будто говорила: «Да, поглядите, до какого состояния меня довели!» Черно-белая ткань платья, собранная складками на ее плоском животе, выше распускалась наподобие венчика, подчеркивая, при всей кажущейся строгости, форму ее грудей.
Но вот первое ослепление прошло, и Серафену удалось освободиться от взгляда Шармен, переведя глаза на плети традесканций, однако он все же заметил руку молодой женщины, протянутую к нему над столом, и протянул в ответ свою — кусок равнодушной плоти, неспособной на сердечное пожатие.
— Ну что ж, — сказала Шармен, — садитесь. Я не хочу, чтоб вы еще подросли. — Она говорила немного в нос, растягивая последние слоги.
Серафен медленно опустился в кресло и склонился над своей тарелкой.
В это мгновение гренадерша, покинувшая свой пост возле глухой, сунула ему под нос супницу с горячим бульоном, едва не обварив кипятком. Она небрежно наполнила его тарелку и щелкнула у него над ухом челюстями, как будто хотела укусить.
— Смотри-ка! — заметила между тем Шармен. — Наш папочка не пришел к обеду.
— Чему ты удивляешься? — откликнулся Патрис. — Как тебе известно, сегодня день Кончиты, и он уехал в Марсель.
— День цесарки! — рассмеялась Шармен. — Как по-твоему, насколько она его в этот раз ощиплет?
Патрис пожал плечами.
— Почем мне знать? Но, думаю, тысяч на пять, не меньше. Я слышал, как отец звонил в фирму Испано-Сюиза, чтобы заказать машину с шофером. Не иначе, как ей понадобился экипаж для турне по Испании.
— Что ж, — вздохнула Шармен. — Главное, чтоб он не наградил ее младенцем.
— Кто-нибудь, — заметил Патрис, — может сделать это вместо него…
Шармен повернулась к Серафену.
— А вас не смущает, что мы стираем при гостях свое грязное семейное белье?
Но Серафен не ответил. Его взгляд невольно обратился к месту, где обычно восседал Гаспар Дюпен, и все его внимание приковалось к пустому креслу.
— Тебе придется привыкнуть, — сказал сестре Патрис. — Серафен не любитель разговоров.
— Это не имеет значения, — лениво протянула Шармен. — Если он согласен хотя бы смотреть на меня.
Почувствовав, что за ним наблюдают, Серафен повернулся с несколько излишней живостью и опять встретился взглядом с молодой вдовой. В джунглях ее зеленых глаз он поймал огонек тревожного удивления и понял, что Шармен, ведомая женским чутьем, пытается проникнуть в его тайну. Тогда, подобно ежу, он свернулся в клубок, оставляя как можно меньше свободной площади, уязвимой для противника, и постарался отвлечь внимание хозяйки, подарив ей самую приветливую из своих улыбок.
— Это кресло, которое вас так занимает, относится к эпохе Людовика XV, — кокетливо заметила Шармен и, проглотив ложку бульона, добавила. — У нас есть еще одно такое, только обивка там меньше выцвела. Оно стоит у меня в спальне. Если хотите, покажу.
Когда, войдя в столовую, она увидела вскочившего при ее появлении Серафена, молодая женщина сказала себе несколько легкомысленно: «Это как раз то, что мне нужно!» Но, подержав его равнодушно-вялую руку, она почувствовала себя обескураженной, и весь порыв угас. Однако потом безошибочная женская интуиция шепнула ей, что этот увалень, примечательный не только своей внешностью, но и тупостью, поскольку она не произвела на него никакого видимого впечатления, возможно, отнюдь не так глуповат и прост, как ей показалось.
От нее не укрылось, что его руки, в которых серебряная вилка и нож с костяной ручкой выглядели почти игрушечными, все время сжаты в кулаки, как будто он готов в любую минуту нанести удар. «Достаточно небольшой вспышки гнева, — подумалось ей, — и он, сам того не сознавая, сломает вилку и нож, а обломки швырнет на стол. А эта дурацкая улыбка, с которой он никогда не расстается, — глаза не принимают в ней никакого участия, и когда они встретились с моими, в них не было обещания. Скорее, его взгляд меня заморозил, и все же…»
И пока Серафен ел, не спеша, с деревенской степенностью, Шармен начало казаться, что все в нем — вплоть до нацепленного ярлыка дорожного рабочего — служит какой-то скрытой цели, помогает ему замаскироваться, как тем насекомым, чья раскраска в точности повторяет тона окружающей их среды.
Ее охватило волнующее возбуждение, ибо тайна была для нее неотделима от любви. Однако Шармен постаралась скрыть от Серафена пробудившийся в ней новый интерес — напротив, она приняла разочарованный вид и теперь дарила его рассеянной вежливостью, как и подобает в общении с другом брата.
— Да уж… — вздохнул Патрис. — Что и говорить, папочка доставляет нам немало хлопот! Представь себе, на старости лет он втюрился в марсельскую певичку, которая страдает манией величия. Трижды эта примадонна снимала «Алькасар» — и все три раза там едва набиралось с полсотни зрителей. Однако наш папочка оплатил все расходы. Но куда хуже, все сделалось известным, и теперь перед певичкой открыты все двери. Понимаешь, она имеет кредит… — Он проглотил кусочек жаркого из зайчатины, причем разнокалиберные лоскутья его лица сложились в хитроумную головоломку, потом принял свой обычный насмешливый вид. — В конце концов, по его милости, мы умрем на соломе…
— У нее абсолютно никудышная задница! — фыркнула Шармен. — Его выбор делает нас смешными.
— И дела совсем забросил! — подхватил Патрис.
— Его увлечение превращается в угрозу для семьи, — подлила масла в огонь его сестра.
Патрис повернулся к матери, которая жестами объяснялась с гренадершей, по-прежнему не спускавшей злобного взгляда с Серафена.
— Правда, с этой в постели ему пришлось отнюдь не весело, — пробормотал он. — В конце концов он заполучил свой мешок золота. Но какой ценой…
— И долго ему пришлось… ждать? — поинтересовался Серафен.
— Долго… почти пять лет. Дядюшки скончались где-то около 1900 года. Мне тогда было четыре.
— А мне год, — сказала Шармен.
— Действительно долго, — согласился Серафен.
Патрис резко поднялся и оттолкнул кресло.
— Пойдем, выкурим по сигарете у меня в студии. — Он увлек Серафена к деревянной лестнице, натертой воском, и распахнул дверь. Пахнуло скипидаром. — Садись, где хочешь!
Нехитрую обстановку комнаты составляли продавленные диваны да пузатый комод, на котором красовалась мраморная голова с орлиным носом, изящно очерченным подбородком и мечтательным лбом, увенчанным лавровым венком. Глаза были белыми и пустыми, точно у слепца. Серафен невольно провел рукой по мрамору. Вокруг громоздилась в беспорядке масса картин: одни — прислоненные к перегородке, другие — небрежно повешенные на стену. Все полотна изображали красивых мужчин или женщин.
На мольберте тоже находилась картина, но повернутая тыльной стороной. На раме химическим карандашом выведено одно-единственное слово: «Ожидание».
Пока Серафен старательно сворачивал папиросу, Патрис перевернул полотно. Молодая женщина, изображенная вполоборота, лежала в непринужденной позе, с чуть наклоненной головой. Черта делила картину на две части, так что одна половина тела женщины выглядела светлой на темном фоне, а другая — темной на светлом. И лишь где-то на заднем плане виднелся золотисто-розовый отсвет — растушеванный набросок буйного крестьянского гулянья.