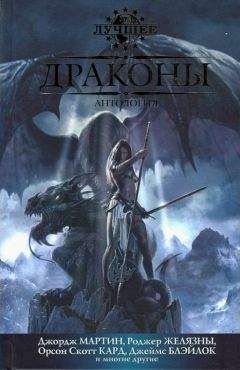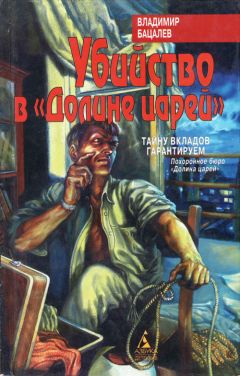Владимир Бацалев - Убийство в «Долине царей»
— Нет ничего страшнее зверя, думающего об удовлетворении первых потребностей.
— Тут думать не надо, инстинкт сработает.
— Уже все улицы забиты этими двадцатилетними инвалидами международной национальности: без рук, без ног, от головы одна оболочка осталась, и та деформирована в мафиозных разборках. Определенно близок конец нормального мира, на пороге второе средневековье со всеми своими ужасами, только на этот раз сумерки наступают техникой: вместо готов — радио, вместо вандалов — телевизор, вместо гуннов — компьютер. Все это человечеству в ближайшие поколения придется переварить психикой, а накопленный книгами опыт зарыть до лучших времен. Все равно у государства, которого нет, нет денег на содержание библиотек. Лучшие умы, как образцовый дебильный ребенок в интернате, все пытаются сложить из кубиков нечто идеально путное, но голова не работает и руки не слушаются. Левая не знает, что правая чешет за ухом, а тут еще и под себя сходил ненароком: мокро, неуютно, поплакать бы всласть после обеда, но не зовут — дотация кончилась. Прав был Лев Толстой: уходить надо из этого сообщества. Порознь — люди, а как соберутся — кретины или водку пьют.
— Основное неудобство истории, Валера, в том, что все хотят делать ее чужими руками, потому что в одиночку не получается, силенок не хватает.
— А вы верите в какой-нибудь миропорядок? В Бога?
— Я Его уважаю как прародителя. Но молиться или просить о чем-нибудь не буду, потому что Он в нашу жизнь не вмешивается, к сожалению. Меня бы тоже не заинтересовала частная жизнь лабораторных микробов и их государственное устройство. Я, конечно, могу их селекционировать до бесконечности или уничтожить уксусом, но спасать одну конкретную амебу, когда под микроскопом пять миллиардов! — я ее просто за шкирку не вытащу.
— Давайте поставим чай.
— Только не в чайнике, который сохранился от прежнего жильца. И заварку свою несите, моя — из бревен. Я тут пытал грузина, как они умудряются чайные листья отрывать с ветками, но он не сознался.
— Они ветки отрывают с листьями…
…Господи, уже больше недели, как переехал в институтское общежитие горе мыкать, и ни одного вечера в одиночестве, тишине и покое: ни жены, ни детей, полна горница гостей. Дрогистов, конечно, хороший парень и мой ученик, но зачем он все время приходит? Может, боится, что я повешусь от тоски? И в самом деле чувствуешь себя, как в детском саду, куда родители сдавали меня от безвыходности на пятидневку: тоже все дни проводишь у окна. Только раньше стоял, потому что высматривал мать или отца, а теперь кого я высматриваю? Дочь? Ее-то я не отдал на пятидневку, пожалел, вспомнив себя. Кажется, позавчера она заходила. Почему, спрашивает, папа, один рукав рубашки глаженый, а другой мятый? Я промолчал: не объяснять же, что утюг остыл. Если б она видела, как я кипятил эту рубашку в чайнике! А почему, спрашивает, дырка в штанах? Опять промолчал, что с приближением зимы жизнь стала очень скользкая. Холодная осень в конце десятой луны, по китайскому календарю, а грамматически — перфект текущего момента. Хотел поджарить нам яичницу — не нашлось масла. Откопал в шкафу какой-то флакон оливкового масла для ухода за кожей ребенка и поджарил на нем. Когда ел, чувствовал себя в парикмахерской. Дочь была сыта…
Вот. Сижу теперь в роли Каренина и упиваюсь, что я — несчастный случай в собственной биографии, осознаю, так сказать, всю степень своей никчемности, ничтожества и безалаберности. Но у Каренина жена хоть под поезд со стыда бросилась, а Алка в лучшем случае под следующего кобеля, а то и под двух сразу. Что ни говори — измельчали женщины, растут без всякого воспитания чувств и даже в их отсутствие, как трава: поливай, грей и пользуйся. С гордо поднятой головой, как стахановки, идут на оплачиваемые занятия в кружок стриптиза, не понимая прописной истины, что их тело принадлежит не им и даже не мужьям, а детям. («Мальчик (девочка), кто твоя мама?» — «Моя мама шлюха и алкоголичка: так ей все папы говорят, когда навсегда уходят».) Почему-то не жалко мне ни Нюрку, ни Эмку, наверное из мужской солидарности, а уж Катьку Измайлову собственными руками придушил бы. Но все-таки рядить о женщинах по книгам куда приятнее, чем из жизни. Там, в буквах, они умней и интересней, даже с проблесками интеллекта и без хвостов, потому что за них писатели думают. Я знаю шесть вариантов, как Алка кончит свои деньки. Все шесть — плохо. Непроходимая глупость, бесчувственность и неуемное желание праздности уже превратили ее в тявкающую собачку, которая так допекла хозяина, что он сбежал. Придется вилять перед всеми хвостом, чтобы миску наполнили. Впрочем, какая она теперь мне Алка! БЖ — бывшая жена. Протянет еще лет пять потаскушкой, подстилкой или вешалкой, а потом на нее разве что в санаториях вырвавшиеся из семьи мужья бросаться будут после пятого стакана… Что-то я совсем затосковал, и тоска как в юности, когда любимые девушки неожиданно отдаются друзьям. Такую тоску хорошо заглушает курица с бульоном на запивку…
Странно, с тех пор как зарплата упала до печатного пособия по выживанию, я стал есть в три раза больше и где ни попадя, опасаясь, что потом оголодаю, а денег не будет. Кавалерова не любила мебель, Паниковского — девушки, а меня не любят деньги. Я искренне пытался любить купюры разного достоинства, заигрывал с ними и флиртовал напропалую, но ни одна не ответила мне взаимностью и верностью. И тут одни шлюхи!!! Неужели я такой урод? Или был не слишком настойчив, терпелив и снисходителен к деньгам, как в случае с БЖ и некоторыми другими тетками? Говорят, у Пушкина было предчувствие, что женщины его любить не могут. Он тоже жил в долг… Но не могу же я в самом деле каждое мгновение и для одной женщины быть лучше всех! Они, безусловно, дуры, но не на уровне же собаки! Женщина состоит не из движения белковых тел, а из потребностей, которые с годами растут быстрее детей. Но дети женятся и уйдут, а вот куда такая дура со своими дешевыми замашками на старости лет денется — мне не ясно. Тем более запросы женщины общеизвестны: поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что. И когда голым, закутавшись в какие-то сети, прискакиваешь к ней верхом на зайце, она почему-то счастливая и на все готова. Вот жизнь!..
— Странное название у вашего чая: «Т-Т-ТЕА». Вероятно, его составитель был заика.
— А вы не пробовали бегом заняться вместо водки? Тут как раз парк за углом.
— Пробовал я, не помогает. Теперь все от бандитов с овчарками гуляют: если побежишь, увезут обкусанным и будут колоть два месяца.
— Меня Цементянников завтра вызывает.
— Ничего удивительного, вчера он заходил в институт.
— И что же? Какие-то новые факты всплыли?
— Просто поболтали, тоже чай пили. Говорит, что топчется в тупике. Одному не справиться, а помощников не дают: дело слишком плевое, нет интереса на высшем уровне, потому что нет подозреваемого с большими деньгами, которыми тот хотел бы поделиться. Последнего Цементянников, конечно, не говорил, но тут и без слов ясно. Правда, поступила анонимка на Безбольникова, и у него нашли пистолет при обыске, но не тот. Пистолет отобрали, а Безбольникова оштрафовали для порядка на два минимальных оклада, как за вытрезвитель, и выгнали. Не сажать же. По нынешним меркам за такое правонарушение все дома в городе придется забрать решетками.
— Где же он взял пистолет?
— Будто бы периодически в его больницу бандиты привозят раненых и под автоматом заставляют оперировать, вот он однажды и нашел пистолет в операционной. Цементянников предложил поставить на охрану, но Безбольников сказал, что они уже пробовали наряд ОМОНа, а вышло только хуже: те насиловали медсестер, воровали психотропные средства и упивались спиртом. В преступной группировке дисциплины куда больше, чем в правоохранительных органах: там «шестерки» взяток не берут.
— Кто автор анонимки?
— Кто-нибудь из турагентства или коллеги из больницы. Вообще-то, темная лошадка этот Безбольников, если разобраться. Но Цементянников не хочет или свой расчет имеет.
— О чем вы еще говорили?
— Просто. На отвлеченные темы. Я сказал, что стране необходимо два уголовных кодекса и две системы наказания в колониях. Разве можно сажать в одну камеру и уж тем более класть на соседние нары животное, хладнокровно убившее семью ради горсти золотых побрякушек, и человека, убившего случайно, или из ревности, или при самообороне? Тем более он по гроб жизни будет мучиться и уже сам себя наказал.
— Вам не кажется, что такой идеей вы как бы косвенно признались и теперь он будет под вас копать?
— Я же не ревновал Трипуна! Меня довели до того, что я стал ненавидеть Трипунов, которые принуждают окружающих принимать их скотский образ жизни. Эта растянувшаяся на века перестройка стоит слишком больших человеческих жертв, а прогресса от нее — с гулькин регресс. Это была частная гражданская война. Вы со мной согласны?..