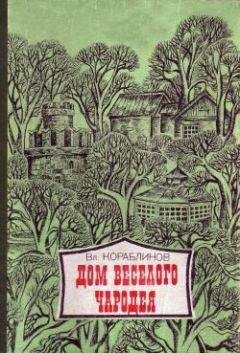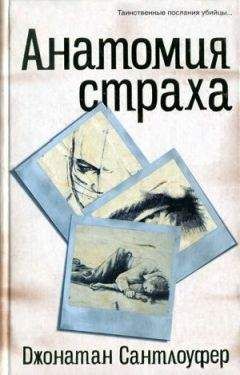Николай Зорин - Окрась все в черный
Анна сделала следующий неуверенный шаг вперед (все же вперед) — под ногой что-то хрустнуло. Это ее так испугало, что она еле удержалась, чтобы не броситься на грязные ступеньки, прикрыв голову руками. Мужчина из поезда вот так же испугался, когда лопнула шина, а потом оглушительно хохотал над собой, рассказывая. Нет уж, если приехала в такую даль, надо хотя бы проверить, довести эту чужую жестокую шутку до конца. Да и нет ничего страшного — не призраков же в самом деле пугаться. Просто Инга попала в трудную ситуацию, вот и поселилась здесь. Странно, правда, в таком месте устраивать праздник, да еще детский праздник, но, наверное, и этому найдется объяснение.
— Господи, сделай так, чтобы все обошлось! — вслух проговорила Анна, прошла еще один пролет лестницы и остановилась у квартиры, указанной в адресе. Постояла, послушала. Ей показалось, что там, в глубине квартиры, кто-то плачет, надрывно, как плачут по покойнику. Она резко толкнула дверь — и чуть не столкнулась с мужчиной. Он испуганно от нее отскочил, другой мужчина посмотрел на нее с какой-то странной, словно мертвой и в то же время удовлетворенной улыбкой, словно знал, что она придет — что придет именно она.
— Где Инга?! — закричала Анна — получилось слишком громко и грубо. В комнате действительно плакала женщина, чужая, взрослая, не ее сестра. — Кто вы такие? Что происходит?
— Горе какое! Как же мне не везет! — запричитала женщина, всхлипывая.
Никакой надежды не осталось — не сон и не шутка и не обошлось. Руки ее разжались, букет упал на пол, Анна бросилась в комнату. Инга лежала на кровати. Не было никаких сомнений, что она мертва.
* * *А потом оказалось, что и ребенок пропал. А весь народ, который собрался, — абсолютно незнакомые друг другу и к Инге никакого отношения не имеющие люди. А дом не такой уж необитаемый — у сестры есть сосед, Филипп, художник, на вид совсем сумасшедший. Это он смотрел на нее с такой странной, узнающей улыбкой там, в коридоре. А киллер, возможно, один из этих чужих друг другу людей. Знать бы кто. Вряд ли сосед, художник, Филипп. Вряд ли эта плачущая женщина. Скорее всего, тот, кто пришел после нее. Кстати, только он не назвал своего имени. Человек, не пожелавший представиться, — вероятней всего, убийца.
Голова болит невыносимо, а от слез сделался страшный насморк и, кажется, поднялась температура. Как некстати было бы сейчас заболеть! Но Инга… Осознать невозможно, что она умерла. Очень больно в груди — душа разорвалась от боли, говорят, так бывает при инфаркте, — но осознать все равно невозможно. А этот не пожелавший представиться так по-хозяйски расхаживает по квартире. Наверное, думает, что, если вести себя нагло, никто не догадается, что он убийца. Она может его выдать. И очень даже запросто. Сообщить в милицию, рассказать, о чем говорила Инга… И расквитаться. И… спастись — ей ведь тоже угрожает опасность. А если ее убьют, кто позаботится о ребенке? Да, не ради себя и не из страха за свою жизнь, а ради ребенка…
Ребенка нет. Ребенок пропал. Скорее всего, его украли, чтобы продать за границу. А от профессионального убийцы ей не спастись. И никакая милиция не поможет.
Кстати, вот и она, милиция. Рассказать? Ни в коем случае! Его наверняка не арестуют, потому что доказательств у нее никаких, только слова Инги. Лучше молчать. Лучше заплатить киллеру долг сестры и упросить его сохранить ей жизнь. Может, и ребенок у него, в качестве заложника. Значит, надо ждать.
Анна прилегла на кровать рядом с Ингой, уткнулась лицом в одеяло и затихла. Но ее подняли, оттащили от сестры и куда-то поволокли. Оказалось, в кухню — там устроили нечто вроде импровизированного кабинета следователя. Допрашивали ее первой, невзирая на боль и плохое самочувствие. Про киллера она не сказала ни слова. Она вообще говорила очень мало. Ее рассказ по предельной краткости мог бы войти в Книгу Гиннесса: сестра пригласила на день рождения ребенка, она приехала и обнаружила, что та мертва.
— Простите, — жалобно прибавила Анна, — у меня страшно болит голова.
Но сжалиться, кажется, над ней не собирались — у них было так много вопросов.
— Какого пола ребенок?
— Не знаю.
— Когда вы в последний раз разговаривали с сестрой?
— Давно.
— Вы были в ссоре?
— Нет.
— Какие отношения у вас были до вашего отъезда в Лесозаводск?
— Хорошие.
— Почему вы уехали?
— Нашлась работа.
— Где вы работаете?
— В заводской столовой.
— Кем?
— Поваром.
— А разве здесь нельзя было устроиться поваром?
— Не получилось.
Их вопросы все не кончались — ее краткие ответы вызывали лишь раздражение. Ей ну ни капельки не сочувствовали и смотрели так, будто это она убила сестру. И все равно про киллера она им ничего не сказала. В конце концов ее оставили в покое. Но в комнату, к Инге, не пустили. Там работает группа, объяснили ей и приткнули к стенке в коридоре. Все остальные гости тоже теперь находились здесь. Было очень тесно и душно и сидеть не на чем, а стоять совершенно невозможно. Ноги подгибались, голова плыла, болело в груди, и нечем было дышать из-за насморка. Платок промок насквозь, другого взять негде. Но во всем этом все-таки явилось свое преимущество: она так страдала физически, что душевная боль отошла на второй план, и страх перед киллером отошел. Теперь ей хотелось только одного: чтобы поскорее все закончилось, все эти люди ушли и она смогла бы лечь в постель. Время от времени ей становилось так плохо, что на мгновение она теряла сознание — не падала в обморок, но как бы отключалась. И еще ее посещали какие-то бредовые видения. Этот тесный коридор расширялся до размеров огромного зала, пол становился ужасно скользким… Она бродила по залу, осторожно ступая, боясь упасть, обмахивалась газетой, как веером, а за ней по пятам, шаг в шаг ходил ее назойливый попутчик из поезда (она его не видела, только слышала) и канючащим голосом капризного ребенка выпрашивал стакан клюквенного морса. От морса Анна бы и сама не отказалась, так пересохло во рту и в горле. Потом вдруг зал исчезал, и она снова оказывалась в коридоре: люди стояли, прижавшись к стенам, вполголоса разговаривали, только сосед Филипп, художник с безумным взглядом, молчал. Он выглядел так, будто и у него были видения. Анне захотелось подойти, положить голову ему на плечо — вдвоем ведь легче переживать этот бред. Но сил не было, и коридор опять поплыл, поплыл… и кандидат в депутаты их города с плаката в столовой объявил, что Валентина уволена. Анна сползла по стене и вдруг оказалась сидящей на полу в коридоре погибшей сестры. Некоторые тоже сидели на корточках. Потом произошло какое-то движение, перешедшее в легкую суматоху. Их согнали в кухню, опять по очереди стали о чем-то спрашивать — в суть вопросов она уже не могла вникнуть, но, вероятно, все о том же.
Сколько времени все это продолжалось, Анна не смогла бы сказать, но, когда наконец обнаружила себя лежащей в постели (то, что это была постель ее мертвой сестры, почему-то совсем не трогало), была уже глубокая ночь. Как она ложилась, как раздевалась, совершенно не помнила, просто, в очередной раз очнувшись, поняла, что лежит в постели и ей наконец-то хорошо.
* * *Утром Анна окончательно поняла, что тяжело заболела, так тяжело, как еще никогда в жизни. Нужно принимать какие-то меры, но трудно было даже представить, как она вылезает из постели, куда-то идет… У Инги должны быть лекарства — у всех, у кого маленькие дети, всегда есть лекарства, — но как до них добраться?
Она засыпала и просыпалась и все время помнила, что нужно пойти и разыскать лекарство, но не могла заставить себя встать. И только когда совсем заложило в носу и в груди и она почувствовала, что просто умрет от удушья, если ничего не предпримет, наконец поднялась и, держась за стены, еле-еле переставляя ноги, отправилась на поиски аптечки.
Поход отнял все ее силы и занял много времени, но не увенчался успехом — лекарств в доме не было. Никаких. Даже элементарного аспирина не нашлось. Даже детской присыпки. «Как можно быть такой безответственной мамашей?» — попеняла она мертвой Инге и в изнеможении опустилась возле дверей ванной на пол, не зная, что теперь делать. И тут ей вспомнился сосед Филипп — можно ведь попросить лекарство у него. Отдохнув немного, Анна с трудом поднялась и отправилась к Филиппу.
Он долго не открывал. Ей стало ужасно обидно: он не хочет ее впустить, отказывает в помощи, а ведь ей всего-то и нужно немного утешения и ка кая-нибудь обезболивающая таблетка — так дико болит голова… а домой не дойти, не дойти. И вот когда она впала в самое настоящее отчаяние, дверь открылась. И все закончилось хорошо: он проявил самое искреннее сочувствие, заботливо подхватил ее, поняв, что она не в силах стоять на ногах, провел к себе, усадил, положил свою восхитительно прохладную руку на ее раскаленный лоб. Правда, от этого ее сразу зазнобило. Лекарств и у него никаких не нашлось. И вскоре ей пришлось снова встать… Но он, милый, милый Филипп, помог ей дойти, уложил в постель, укутал одеялами, пообещал сходить в аптеку, сказал, что вернется очень скоро… Она улыбнулась ему на прощание, закрыла глаза и провалилась в черную бездну.