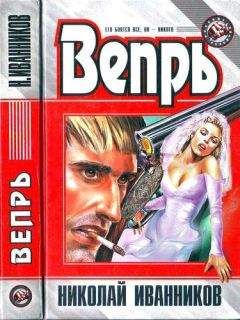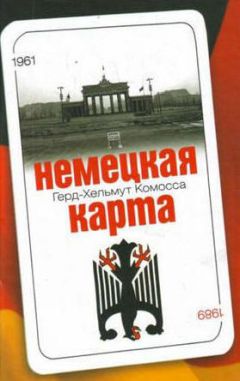Николай Черкашин - Опасная игра
— Кто на мой пенсион позарится? Ты смотри, государство платит мне за мою ногу — если по живому весу брать — как за десять килограммов свинины на рынке.
Нет, ты пойми, меня как свинину оценили. Приравняли к кабану. Меня! Майора, академию кончил! Учился больше, чем жил. Воевал, сам знаешь как… Объясни ты мне, что ж у нас за гу-су-дарствие такое, а? Что за родина, которая своих сыновей на свинину переводит?
— Не путай, Коля, два понятия — родина и государство. Оказывается, они могут и не совпадать.
— Как так?
— Суди сам: родина — это твоя земля, дом, река, люди, среди которых ты вырос. Пушкин. Сергий. Лавра. Свято-горье…
— Да понятно, не учи меня родину любить.
— А государство — это машина, это агрегат, надетый на родину либо как сверхмощный доильный аппарат, либо как, скажем, лечебный аппарат Илизарова. Либо эта машина твою родину в люди вывозит, либо давит, как танк.
— Согласен. Зачет. Убедил. Тогда скажи вот что. Как законник скажи. Представитель, так сказать, правоохранительных органов. Вот вы это право охраняете, охраняете. А преступность растет. И еще как растет-то. В кого ни ткни — тот вор, тот взяточник, тот бандюга, а этот фарцовщик, а та — путана. Хреново что-то охраняете! Тогда посылай свою контору на все четыре да приходи ко мне с концами. Веломобили будем клепать. Людям польза.
— Уже бросил. Рапорт подписали.
— Ай молодец! Ай хвалю! Послушался-таки старого еврея. Давай выпьем за новую жизнь.
— А что касается роста преступности, то это следствие несовпадения государства и родины.
— Умно загнул.
— У нас ведь в России народ веками привык видеть в государстве давилку, ненасытную притом. Дай, дай, дай… Подати, налоги, оброки, повинности… И притом никакой ощутимой помощи, никакой защиты — ни от чиновника, ни от конокрада. Или там от автоугонщика. Ладно, от Наполеона с Гитлером худо-бедно отбились. Да и народ горой встал, кровью залил, телами завалил. А сколько оно, это государство, само войн спровоцировало? Один Афган чего стоит.
— Афган не тронь.
— А финская, а Чехословакия, а Чечня…
— Тебя послушать, ты как анархист рассуждаешь. Что ж, государство и не нужно совсем?
— Нужно, конечно. Но такое, чтоб я знал, что на мои кровные, которые я в налог отдаю, построили новый мост в Хотькове, а не загородную виллу очередному мэру.
— Так на то вы и приставлены, правоохранительные органы!
— Все это так. Но я отвечаю тебе на твой вопрос. Народ веками видел в государстве только пресс, и веками этому прессу сопротивлялся. Государственное? Тащи, грабь. Урвал — молодец! Обманул чинарика? Бумагу, справку подделал — так и надо! Режь подметки на ходу, парень, они государственные. У государства всего много. Все равно отберут. Оно вчера, а ты сегодня. Оно днем, а ты ночью. Вот такая психология нам уже в кровь вошла, в гены. Выросли поколения — носители антиправового сознания. Вот тебе и рост. Вот тебе и всплески криминала.
— Но мы-то кровь за что проливали — за народ? За государство? Или за криминал?
— За криминальное государство.
— Ну, хватил! Как настоящий демократ сказанул.
— Брежневское Политбюро — типичная бандгруппа от политики. Над законом себя поставили. Творили, что хотели. Разворовали всю страну.
— А я тебе так скажу — не надо было СССР разваливать!
— А кто его развалил, по-твоему, Ельцин? Горбачев?
— Кто же еще? С него, меченого, и началось, в муравейник его жопой!
Еремеев выскочил из-за стола, заходил по комнате.
— Тебя послушать, Горбачев — супербогатырь. Пришел и державу развалил. Кишка тонка одному человеку такую махину развалить. Сама рухнула. Час ее пришел. С семнадцатого года все разваливали, развалить не смогли.
— Но ведь жили же!
— На нефтедоллары жили! Сырье продавали, тем и жили. Когда страна торгует своей природой, она ничем не лучше проститутки, которая телом приторговывает!
Тут вскочил и Тимофеев, заковыляв на протезе по другую сторону стола.
— А позвольте вам меж глаз врезать, сэр! Что, СССР великой державой не был?! Или мы в космос корабли не запускали? Или атомные подлодки не строили? Или танки хреновые были? Весь мир в кулаке держали!
— Великая держава, говоришь?! А хлеб у Америки покупали! Хороша великая, сами себя прокормить не могли. Это тоже абсурд — наводим ракеты на того, у кого хлеб берем!
— Так если бы они на нас своей атомной бомбой не замахнулись, кто бы на них ракеты наводил? Сами бы свой хлеб растили.
— Хрен бы растили! До атомной бомбы, до войны мы что, много хлеба навыращивали? Да пойми ты, Коля, Россия до 17-го года полмира своей пшеницей кормила, а при большевиках зерно на золотые слитки менять начала. Это нормально?
— Да ладно тебе, — в сердцах рубанул ладонью воздух Тимофев, — что мы, в «застойные» годы голодали шибко?!
— Кто это «мы»?! — вскинулся изрядно распаленный Еремеев. — И где это «мы» не голодали? В Москве — да. А здесь, в Хотьково, а в Сергиевом Посаде, а на Волге, а за Уралом, а в России? А талоны на колбасу забыл? А макароны с черного входа? А номера на ладонях? А очереди за водкой? А «больше двух в одни руки не отпускать»?
— Ну это только в последние годы было.
— Ага, только хорошо жить стали, бац, деньги кончились! А почему кончились? Да потому что в Политбюре твоей любимой их не считали. Во-первых, считать не умели, потому что честной статистики в стране не было, все цифры с потолка начальству лепили. А во-вторых, считать не хотели, потому что полагали, что в России всего много. БАМ? Вот вам десять миллиардов на БАМ. Ах, он уже почему-то четырнадцать стоит? Ну берите четырнадцать. Ах, он на хрен кому нужен? Тс-с! Об этом ни полслова. Пусть это будет скромным памятником Ильичу. Реки повернуть? Из Сибири на юг? Пожалуйста. Еще одна стройка века. Ах, никому не нужно и даже вредно? Ну и не будем, черт с ними, с миллиардами. Еще напечатаем.
Да тут никакая самая развитая экономика не выдержала бы! Америка бы рухнула, заставь американцев лепить мемориалы своему Линкольну в каждом штате и на каждой ферме памятник ставить.
— Под Ленина копаешь?
— А знаешь, сколько твоих любимых танков — я уже не говорю об одноразовых шприцах — на один только ульяновский мемориальный комплекс можно было выпустить?
— Да на кой ляд эти танки? Мы их столько наклепали, что…
— Вот! Вот! Потому и наклепали без счета, что считать не умели и не хотели. Вот и просчитались кремлевские старцы. Вот и повело их на перестройку, которую тоже не просчитали.
— А твои дерьмократы лучше?
— Ну, если я дерьмократ, то ты совок красно-коричневый!
Тимофеев остановился, схватился за край стола, нависая над ним, словно ствол самоходной пушки. Голос его задрожал на ноте последнего срыва:
— Да, я — красный! От злости и обиды покраснел. Мне ногу оттяпали, а потом ваучер сунули. Я на него пять бутылок водки купил! Это что — моя часть всероссийского нашего достояния?! Это за то, что мои отцы и деды настроили, напахали, навоевали — пять бутылок водки?! Так это твои демократы сотворили, а не домушники. Это ты им служишь, ты их защищаешь. А меня — в коричневые записал. В фашисты, значит. А у меня батя под Берлином лег, а я фашист? — бил Тимофеев прямой наводкой, темнея от гнева и выпитого. — Так какого хрена ты к фашисту приперся со своей кралей? А? А ну, марш отсюда к своим демократам, трубка клистирная, мент поганый! Из-за таких, как вы…
Спорить с ним было и бесполезно, и опасно. Еремеев отшвырнул стул, загораживавший выход из гостиной и двинулся в комнату Карины. Вошел без стука.
— Пошли, Карина! Вставай.
— Умираю — спать хочется…
— Надо идти. Пойдем!
— Куда еще?
— В баню.
— Не остроумно.
— Говорю в баню, значит в баню! У меня на участке только баня и осталась. Дом сгорел. Там вполне переночевать можно.
— А здесь нельзя? — нехотя приподнялась Карина.
— Видишь ли, нас некоторым образом выставляют.
Политические платформы у нас не сошлись. Консенсус не нашли.
— А там найдем?
— Найдем. — Еремеев снова закинул на плечо Каринину сумку.
— Далеко?
— С километр.
— Охо-хо… Только уснула.
Они побрели на еремеевское пепелище и вошли в незапертую баню, забитую уцелевшими или слегка обгоревшими вещами. В небольшой парилке на двух полках были расстелены спальные мешки, изрядно прокопченные дымом пожарища. На них и улеглись. Карина на верхней полке, а Еремеев на нижней. Обоим пришлось слегка подогнуть ноги — вытянуться в полный рост парилка не позволяла. От волос Карины, свешивающихся вниз и едва не касавшихся лица Еремеева, шел тяжелый густосладкий дух розового масла.
«Больше всего на свете, — припомнилась булгаковская строчка, — пятый прокуратор Иудеи не любил запах розового масла». «А чего особенного, вполне приятный аромат», — подумал Еремеев, удерживаясь от соблазна погладить душистые волосы.