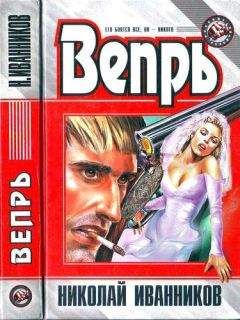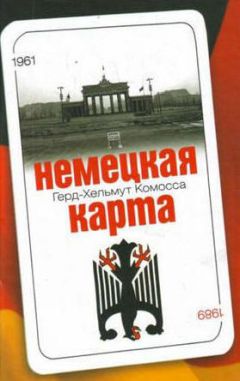Николай Черкашин - Опасная игра
— Помоги!
Но вместо рыжего на помощь бросилась Карина. Они уложили захлебывающегося кровью парня на траву. Рана его была ужасна: пуля раздробила нижнюю челюсть, и к тому же он ткнулся лицом в лобовое стекло — глотку забивало стеклянное крошево и кровавый кляп иссеченного языка. Раненый задыхался. «Еще минуты три и асфиксия», — профессионально отметил Еремеев. В нем вновь ожили полузабытые навыки и рефлексы. Все было как в Афганистане: разбитая изрешеченная машина, обочина, раненые… Не было только медицинской сумки под рукой.
— Аптечка есть? — крикнул он бизнесмену.
— Нет.
— Ну и дурак. Тащи мой чемоданчик!
По старому доброму правилу, заведенному еще с курсантских времен, Еремеев всегда носил в заднем кармане брюк перевязочный индивидуальный пакет. Сегодня утром он израсходовал его на Дельфа, пополнить же не успел.
— У меня есть вата! — вспомнила Карина.
— Давай сюда.
Он вытащил из чемоданчика бутылку водки, скрутил колпачок и сполоснул руки. Обмотав указательный палец ватой, смоченной водкой, он попытался очистить глотку от стекла. Но это плохо удавалось.
— Булавку английскую! Ну?! — умоляюще посмотрел он на помощницу. Карина растерянно шарила по джинсам, куртке.
— Шпилька подойдет?
— Годится.
Обеззаразив шпильку водкой, он оттянул язык пострадавшего, проткнул кончик шпилькой… Теперь надо было приколоть, примотать шпильку к нижней губе, но той просто не было и в помине, как не было и нижней челюсти. Он попытался пристроить ее к узлу галстука, но не нашел чем примотать. Время летело, раненый уже синел от удушья.
«Трахеотомия!» — вспыхнуло в мозгу.
— Держи! — передал шпильку с оттянутым языком Карине. Та, сморщившись, отвернулась, чтобы не видеть лишний раз кровавое месиво вместо человеческого лица. Из все того же незаменимого чемоданчика Еремеев извлек свой флотский кортик, протер клинок водкой и, нащупав под кадыком горло, вонзил острие меж хрящевых колец, затем повернул несколько раз, расширяя отверстие, и парень вздохнул… Страшный это был вздох, с кровавым всхлипом, хрипом. Но все же вздохнул и раз, и два, и в третий раз грудь его живительно приподнялась.
«Трубку бы!.. Рояль тебе в кустах!»
Однако же осенило: достал из куртки шариковую ручку, зубами вытащил затылочную пробку, откусил пишущий узел, выплюнул его вместе со стержнем и получилась вполне медицинского вида — прозрачная даже! — трубка. Промыл ее бесценной «Никольской» и вставил вместо выдернутого кортика. Все! Этот почти в безопасности. Что с другими? Других вытаскивали через заднюю дверцу салона, поддев ее монтировкой. Сначала выволокли тело двадцатилетнего парня в японской куртке с рекламной надписью «Nikon» на спине. Он уже не стонал и не дергался. Еремеев развел пальцами веки: смерть глянула на него широкими зрачками своей жертвы.
— Готов.
«Эвтаназия… Мать ее в клюз!»
Полезли за следующим. Тот оказался мужчиной лет тридцати с черными сросшимися бровями и смуглым лицом. Кавказец? Он дышал. Судя по хлюпающим звукам и кровавой пене на губах, у него был явный пневмоторакс. Разорвав ему на груди облитую рвотой рубаху (сотрясение мозга), Еремеев сразу же обнаружил кровоточащую пузырящуюся дырочку выше диафрагмы.
«Типичный клапанный пневмоторакс — уточнил он свой диагноз. — Герметизировать входное отверстие… Кусочек бы пластыря…»
Жизнь этого незнакомого человека висела сейчас не на волоске — на лоскутке лейкопластыря. Кавказец делал судорожные попытки вдохнуть, но свежий майский воздух был ему недоступен. Кем бы он ни был в своей жизни, но сейчас он представлял собой дырявые меха воздушного насоса, нуждавшиеся в банальнейшей заплате.
Еремеев оглянулся по сторонам. Карина все еще стояла перед ним с пакетом ваты. Пакет! Полиэтиленовый пакет… Он вытряхнул из него вату, сложил вдвое, сполоснул водкой и плотно прижал к пулевой пробоине в груди. Раненый втянул воздух и наконец-то наполнил легкие, воистину, эликсиром жизни. Жизнь… Как легко ее выпустить из бренного сосуда…
Теперь надо было чем-то перебинтовать импровизированный пластырь. Еремеев велел Карине прижимать пакет, вытащил у кавказца из брюк ремень, и, сделав из носового платка прокладку, притянул ее вместе с полиэтиленом. Получилось. Кавказец дышал. И даже пришел в сознание. Еремеев привалил его спиной к днищу опрокинутого «рафика».
«Промедола бы… Щас тебе».
— Ехать сможешь? — крикнул он «ирокезу», сокрушенно рассматривающему покореженный радиатор и смятое крыло.
— Да вроде бы…
— Вези этих двух в больницу. Тут за переездом на спуске к Абрамцеву…
— Да знаю я.
— Номер «мазды» не заметил?
— Нет. Да это ивантеевская мафия. Они с хотьковскими давно уже разбираются… Как с машиной-то? Брать будете?
— Отремонтируешь — возьму. Справишься обо мне на Вокзальной, в доме десять.
Подъехал милицейский мотоцикл.
— Что стряслось, граждане? Кто стрелял? — затараторил гаишный лейтенант, вылезая из коляски.
— Пусть раненых отвезет, — кивнул Еремеев на парня. — Я расскажу…
Разложили сиденья, уложили пострадавших, «волга» двинулась в город.
— Это ваш кортик? — вскинулся лейтенант. — Разрешение на ношение есть?
— Нашел топор под лавкой! Ты бы тех искал, кто с автоматами средь бела дня разъезжает.
— Я сам знаю, кого мне искать. Документы!
Еремеев протянул ему следовательское удостоверение. Хорошо не успел сдать. Да и сдавать, похоже, не стоит. Дубликат надо сделать. Такая ксива по нынешним временам дороже паспорта.
— Куда следуете, товарищ капитан?
— По назначению.
— Надо бы протокольчик составить.
— Пиши. «Мазда» голубого цвета нагнала «рафик» при въезде в город в четырнадцать часов десять минут…
Глава восьмая
ХОТЬ КОГО В ХОТЬКОВО НЕ ПРИНИМАЮТ
Отделавшись от гаишника и смыв с рук кровь в придорожной Воре, Еремеев, взвалив на плечо Каринину сумку, вошел в монастырские ворота с одиноко дремлющим каменным львом, невесть как занесенным в хотьковскую глухомань.
— Ну денек выдался! Что твой триллер…
— А ты, Петя, ничего мужик.
— Да не Петя я. Олегом зовут. Питон — это кличка. Двойная кликуха — по матери я Капитонов, сокращенно — Питонов. А потом «питонами» нас звали, когда в Нахимовском училище учился. Питомцы. Питоны.
— А мне Петя больше нравится. Можно я тебя Петей звать стану? Боевой петушок.
— А ты, курочка, тоже ничего. Крови не боишься!
— Вообще-то боюсь. Только сегодня почему-то не боялась. Куда мы идем?
— Мы идем к моему другу. Зовут его Николай Васильевич. Как Гоголя. Гоголя знаешь? Был такой писатель…
— Да уж проходили в школе.
— Проходили, проходили да затоптали.
Тезка Гоголя жил в рубленом домике между Верхними вратами Покровского женского монастыря и железнодорожной станцией, на улице, носившей, как и все пристанционные улицы в маленьких российских городках, название Вокзальной.
Над тимофеевским домом — трехоконной избой с границей, обшитой в голубую «елочку», — высоко вздымалась хитроумная телевизионная антенна, придуманная и сработанная самим хозяином, недаром ведавшим связью в танковом полку. Бывший майор встретил гостей одетым весьма по-домашнему — в драной десантной тельняшке, в спортивных рейтузах, укороченных под правым коленом — и уже навеселе.
— Здорово, Олежек! А я уж думал ты забыл, какой сегодня день!
— А какой день? Седьмое мая. Понедельник. Очень тяжелый день, — отвечал Еремеев, сбрасывая на крыльцо тяжеленную Каринину сумку. Кирпичей, что ли, она туда наложила?
— Сказал бы я тебе, кто ты есть после этого, да дама с тобой очень уж зажигательная, — радостно горланил Тимофеев, проводя москвичей в комнаты. — День радио сегодня, раз — братство бранных сыновей эфира! И два-с — мой второй день рождения. Кто мне правый мосол в Кандагаре оттяпал?! Он, девушка, он, изверг. Не смотрите, что он под интеллигента работает. Мясник и коновал! Зверь! Дай я тебя обниму, дорогой! Если б не ты…
— Да ладно! Я вот тебе бутылку вез — не довез.
— Одну?
— Одну.
— Одна, брат, не размножается. Давайте к столу. У меня картошка с немецкой тушенкой. Огурчики собственного засола и водочка из старых запасов — «Русская».
Пить Карина наотрез отказалась, упросила постелить где-нибудь и рухнула как подкошенная на тахте в отведенной ей комнате.
— Кто такая? — громким шепотом спросил Тимофеев, когда они вернулись к столу.
— Знакомая. Потом расскажу.
— Но ты — топор-хопер-бобер! Классных девочек снимаешь… А я, брат, отпрыгался…
— Погоди, мы тебе еще такую хозяйку найдем.
— Кто на мой пенсион позарится? Ты смотри, государство платит мне за мою ногу — если по живому весу брать — как за десять килограммов свинины на рынке.