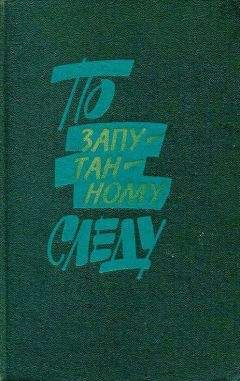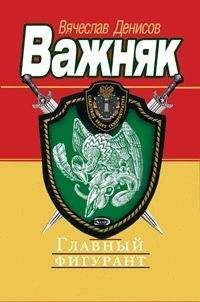Анатолий Безуглов - Инспектор милиции
— Старшина. Не успел дослужиться.
Ох уж эта мне звездочка! Знала бы Ксения Филипповна…
— Сычову бы не дали. Давно ведь за ним грешки наблюдались. И главное — это… — Ксения Филипповна щелкнула себя по шее. — Ну и мотоцикл тебе сразу определили. Новый. И цвет видный.
— Участок большой, — как бы оправдывался я. — Служба у нас становится все оперативнее…
«Выходит, только проклятому бугаю цвет моего мотоцикла не понравился», — подумал я про себя.
Ксения Филипповна продолжала:
— Народ, он все подмечает. Самую малую крошечку. Потому как любые перемены на нем отражаются. Что ты ему ни говори, а он прежде всего дело видит. Человек каждый день ходит в магазин, каждый день хлеб ест, еще он одежду носит, в автобусе, поезде ездит… Всякую службу несет. И женится, родит себе подобных. Небось тянется туда, где лучше. Бежит с того места, где жмут его. И очень-очень много думает, прежде чем сделать что-либо… А как же иначе быть должно?
Я спросил ее, почему она не уезжает к детям. Ведь одной жить тоскливо.
Ксения Филипповна покачала головой:
— Нет, Дмитрий Александрович, не хочу я жить в городе. Асфальт не люблю. По мне самое лучшее — по земле ходить. Хоть и не разрешают врачи, а я люблю скинуть башмаки и босиком, босиком по двору шастать. Помню, девчонкой была, так без обувки до самых холодов бегала. По стерне. Колется, царапает, а мне все нипочем. Еще такие колючки есть — гарбузики. Ну прямо в наказание ребятишкам созданы. Напорешься, слезы из глаз, а через минуту забываешь, скачешь, як та коза. А то, что я будто одинокая, — совсем ерунда. Я здесь каждую бабу, каждого мужика знаю, их детей и детей их детей. Все как родня. Не то что в городе! Вон у дочери насмотрелась. С соседями стенка в стенку живут десять лет, каждый день видятся, а будто даже и не знакомы. «Здравствуй — до свидания» не скажут. И считают, так как бы и надо…
Я слушал Ксению Филипповну, и перед глазами у меня стояла бабушка. Она тоже жила только для других. Ее ничто не могло сломить: ни старость, ни недуги. Потому что бабушка ничего так не ценила, как людей.
Как я жалел, что ее уже нет. Она ушла из жизни не в страшные годы разрухи, голода, под немцами, а тогда, когда было тихо и спокойно в мире. Дома все спали. Ей словно захотелось открыть дверь и выйти посмотреть на безмятежную ночь, полную звезд. Ушла и не вернулась…
Про Чаву и Ларису Ксения Филипповна так ничего и не сказала. А я почти был уверен, что разговор с Арефой шел именно о них.
Деликатная душа обитала в Ксении Филипповне. Наверное, чувствовала мою настороженность и натянутость, когда я видел библиотекаршу.
…Засыпал я в этот вечер без особых забот. Я опять ощущал, что жизнь огромна и бесконечна.
Как-то бабушка сказала, что мужчине обязательно надо, чтобы его беззаветно любила хотя бы одна женщина, будь то мать, сестра, жена или дочь… У меня сейчас есть такой человек. Это Алешка.
А потом?
Потом будет дорога, дорога через зеленую степь. С холма на холм… без конца, без края…
Я заснул.
И когда стали тарабанить в дверь и в окно, я не сразу понял, на каком нахожусь свете.
— Товарищ участковый! Товарищ милиционер! Митька Герасимов убийство может совершить!.. Помогите…
Во мне сработала армейская привычка. Я соскочил с постели, как по тревоге, и оделся в считанные секунды.
Мы бежали с пожилой женщиной, которая путалась в длинной ночной сорочке. Платок поминутно сбивался ей на плечи. Она поправляла его, забыв, однако, о том, что почти раздета.
Из ее бессвязных криков я понял: она услышала, что сосед, Дмитрий Герасимов, грозится кому-то ружьем, И пьян «до бессамочувствия». А там, в хате, дети…
Я пытался вспомнить лицо Герасимова, но перед глазами почему-то маячил Сычов…
И когда мы добрались до герасимовского двора, который обступили несколько станичников, я понял, почему мне в голову лез Сычов.
Это был тот самый молодой мужик, в белой майке и синих штанах до щиколоток, который частенько захаживал в тир, к Сычову, с бутылкой.
Я увидел его в проеме освещенного окна, в той самой майке, с двустволкой наперевес.
Он стоял посреди горницы, под самой лампой, чуть-чуть покачиваясь, с сумасшедшими, застывшими глазами…
Он стоял посреди горницы, под самой лампой, чуть-чуть покачиваясь, с сумасшедшими, застывшими глазами…
Перед ним, всхлипывая и причитая, закрывала кого-то собой его жена. Наверное, за ее спиной прятался ребенок.
Это я увидел, подойдя вплотную к окну. Я чувствовал плечом шершавую саманную стенку и лихорадочно обдумывал, как обезоружить пьяного, находящегося в бреду горячки мужика.
Медлить было нельзя. Могло вот-вот произойти непоправимое.
Что делать? Что делать?! От напряжения у меня стучало в висках.
Митька стоял как раз напротив двери. Если я ворвусь через сени, то столкнусь с ним прямо лицом к лицу. И не известно, что взбредет ему в голову. Такие люди начисто лишены самоконтроля.
С бьющимся сердцем я обогнул хату. Теперь я видел через открытое окно Митькину спину…
— Митя, Митенька… Да что ж ты задумал, миленький? — жалобно плакала его жена. Из-под ее руки смотрело испуганное детское личико. Герасимов что-то бессвязно и грубо кричал.
Раздумывать дальше было нельзя. И прежде чем Митька обернулся, я влетел в хату, сбив с подоконника горшки с цветами.
Я кинулся к нему под ноги, когда надо мной что-то разорвалось. В нос ударил кислый, едкий запах пороха. Вокруг зазвенел железный дождь. Его капли запрыгали по комнате, по полу…
Трудно понять, откуда у пьяного взялась такая сила! Он был словно буйнопомешанный. Я боролся с ним и боялся, что мне его не одолеть. Он был похож на крепкое, жилистое дерево с торчащими во все стороны сучьями, которые надо было обязательно сложить вместе, а то они здорово колотили и мяли меня…
Потом прибежали какие-то парни, по-деловому, сосредоточенно связали веревкой дергающегося подо мной Митьку.
Я огляделся. Вся комната серебрилась алебастровой пылью, а по ней ходил бледный, худенький мальчик лет пяти, в сатиновых заплатанных трусиках, и молча собирал пятаки и гривенники.
Митька угодил в копилку, стоящую на старомодном резном буфете.
Я не знаю, почему тогда принял именно это решение.
Может быть, потому, что вид Митьки был ужасен: безумные глаза, ходившее ходуном спеленутое тело, бычье мычание?
Оброненная кем-то фраза: «Теперь до утра не успокоится»?
Наставление преподавателей, что подобных нарушителей надо немедленно изолировать?
Тень смерти, в клочья разнесшая гипсовую кошечку?
Наверное, все вместе.
Мы дотащили его в мой кабинет почти на руках. Уложили на диван с потрескавшимся дерматином, и я остался один на один с Герасимовым коротать ночь…
Это потом я вспомнил ее во всех подробностях. Во всех деталях зыбкого, полудремотного бдения. И каждая секунда показалась значимой и полной смысла. Потому что эта ночь, как удар топора, разделила всю мою жизнь ровно пополам. На то, что было до и после.
Все это было потом.
А тогда я сидел за своим столом, опустив тяжелеющую голову на руки, и смотрел на Митьку, зубами вцепившегося в веревку и остекленевшими глазами уставившегося в потолок. Герасимова бил озноб. Кто-то зачем-то окатил его из ведра.
Диван под ним ходил ходуном, скрипя старческими пружинами. А потом утих.
Я был зол на Митьку. Может быть, потому, что он напомнил мне очень неприятные минуты в моей жизни.
Нет, отец никогда не бывал буйным. Наоборот, опьянение лишало его какой-либо подвижности, жестов, мимики. Он переставал общаться с этим миром. Из него уходил человек, и оставалась одна пустая оболочка.
И хотя случалось это не так уж часто, но каждый раз разлад в семье продолжался долго и шоком сковывал мать.
Она не кричала, не ругалась. Она страдала тихо и упорно, как от скрытой тяжелой болезни. И не бросалась с лихорадочной любовью на нас с Алешкой, чтобы облегчить свою боль. Она сильная, моя мать.
Я не знаю, переживал ли отец. Иногда казалось, что да, переживал. Но тогда разве можно было снова окунаться в это состояние?
Наверное, от матери у меня неприязнь к алкоголю.
Лишь одна бабушка как-то сдерживала дурное влечение отца.
Но ее не стало…
Я сидел, облокотившись на стол. У меня затекло все тело. В голову иногда заползали призрачные сновидения, но тут же улетучивались при каждом резком скрипе диванных пружин.
Герасимова снова стал бить озноб. Во мне проснулась жалость. Может, я видел в нем другого человека, моего отца? Не решаясь сбегать домой за одеялом и не найдя ничего другого под рукой, я укрыл его сложенной вдвое суконной скатертью со стола.
Часа в три он притих. Я развязал ему руки. И вздремнул сам.
Часов в пять я проснулся оттого, что он сидел на диване и смотрел прямо на меня. Взлохмаченный, с синим, отекшим лицом.