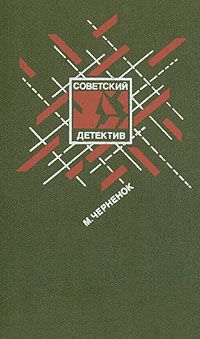Елена Михалкова - Золушка и Дракон
И, подытожив краткой характеристикой свое отношение к третьей девушке, доктор направился к лодке.
– Идемте же! – позвал он, обернувшись на неподвижно стоящего Сергея. – Что вы застыли? Опоздаем на завтрак, а сегодня, если не ошибаюсь, вареное яйцо и морская капуста!
Последняя фраза мигом вывела Бабкина из его раздумий.
– Яйцо? – встревоженно спросил он, устремляясь за своим провожатым. – Подождите… Что значит «вареное яйцо»? Что – одно?!
Глава 3
Нынче после завтрака мне удалось ускользнуть. Стыдно сказать, но я сбежала из дома, пока все были поглощены очередной ссорой между Лидией и Григорием, и нырнула за погребицу. Там растут лебеда и полынь, пахнет луговой горечью, горячей дорожной пылью и кибиткой (хотя, признаться, мне не доводилось нюхать кибиток), и на секунду, прикрыв глаза, я представила, что у меня все хорошо, что мы с Федей живем одни и нам больше не нужно никого бояться.
От этих кощунственных мыслей я вздрогнула и открыла глаза. Что я говорю?! Мы и так никого не боимся! Федька-то уж точно: он живет все лето у моих мамы и тети, носится босиком по лужам, рисует молочные усы возле губ и знает всех коров по именам, а быка – еще и по отчеству.
Мама часто жалуется мне на него. Неудивительно: она понятия не имеет, как обращаться с мальчишками! Единственный мужчина в нашей семье, да и то условный, это кот Шампиньон. Три поколения меланхоличных женщин взирают со стены в гостиной: прабабушка, бабушка и мама с тетей. Я могла бы пополнить этот ряд одиноких дам, но меня угораздило выйти замуж. То есть посчастливилось, как говорит мама.
Я знаю, что мне очень повезло. Мне твердили об этом так часто, что у меня выработался рефлекс: стоит матери начать: «и помни, что тебе…», как я бодро заканчиваю: «очень повезло». И еще ни разу не ошиблась с продолжением.
Видите ли, у каждой женщины в нашей семье есть талант, призвание. Мама – дизайнер: она из обломков, обрывков и ненужных кусочков чего ни попадя создает эстетические кошмары, но ужасы нынче в моде, и ее творения охотно раскупаются. Бабушка, учитель музыки, прекрасно пела: у нас даже сохранились записи. Меня каждый раз пробирает дрожь, когда я слышу арию из «Травиаты» в ее исполнении, но затрудняюсь сказать, связано ли это с воздействием бабушкиного голоса или же с тем, что она была приверженцем порки детей в любых неоднозначных ситуациях.
Моя тетя унаследовала от нее музыкальность и пошла по материнским стопам: она преподает в музыкальной школе и дает частные уроки. Иногда, возвращаясь домой, я вижу детей, выходящих из нашей квартиры после окончания занятий. Когда дверь за ними закрывается, у них становятся такие счастливые, такие радостные личики! Разве нет в этой радости заслуги моей тетушки?
Мне же, увы, не досталось ни одного таланта. Даже малюсенькой способности. Даже заурядного уменьица, которым я могла бы если не блеснуть, то хотя бы чуть-чуть погордиться.
Мама рьяно пыталась выжать из меня призвание, найти хоть какую-нибудь зацепку, которая позволила бы назвать меня одаренной. Меня отдали на танцы – я ухитрилась в первый же день занятий разбить зеркало и стукнуть чешками по ушам другую девочку. Стукнула я ее потому, что она обозвала меня коровой – как я теперь понимаю, вполне заслуженно. Но в шесть лет я еще не успела свыкнуться с тем, что прозвище это справедливо, и отомстила как могла.
Вслед за танцами на меня обрушилось фигурное катание. Я была строго-настрого предупреждена, что коньки – не чешки, и наставлять с их помощью других детей на путь истинный нельзя. Первое занятие прошло без эксцессов, но на втором я врезалась в бортик и сломала два пальца себе и три – тренеру. Мне казалось, что соотношение справедливо, но тренер счел иначе, и на фигурное катание меня больше не водили.
Кружок рисования, к счастью, прошел для всех безболезненно. Не считая моральной травмы, нанесенной руководительнице кружка – милейшей женщине, убежденной в том, что даже зайца можно научить рисовать. Возможно, применяй она свои методы обучения на зайце, они и впрямь дали бы толк. Но ей попалась я. Когда моей маме надоело видеть в альбоме жутковатые каляки-маляки вместо ожидаемых шедевров, кружок рисования для меня закончился.
Затем последовала секция художественной гимнастики, которую сменил теннис, а его, в свою очередь, хоровое пение. Мама металась со мной по кружкам, пытаясь понять: где же, в какой области скрывается вожделенное дарование? Как суматошный золотоискатель она рыла то здесь, то там, дожидаясь, не блеснет ли, не ослепит ли своим сиянием прожилка моего таланта, но снова и снова отшвыривала в сторону пустую руду.
В отчаянии мама попыталась пристроить меня в конный спорт. Секция женской академической гребли, в которую меня отдали после того, как сросся перелом (заслуга не лошади, а земного притяжения: я грохнулась со стоящего смирно животного и сломала руку), стала последним этапом: выяснилось, что я и весло – вещи еще менее совместимые, чем я и лошадь. С травмой кисти я вновь попала в больницу. После этого мама сдалась.
Не подумайте, что я росла хулиганкой – совсем наоборот! Я была тихой безропотной девочкой, старательно выполнявшей все, что мне говорили. Меня до слез огорчали мои «успехи», а еще больше реакция мамы, поджимавшей губы с видом «я так и знала» всякий раз, когда очередное ее начинание оканчивалось неудачей. Я чувствовала себя виноватой в том, что не могу кружиться в танце легко, как другие девочки, что не в силах нарисовать простейшее яблоко с хвостиком, что голос мой пискляв и фальшив.
– Никчемная у тебя девица растет, – как-то раз осуждающе сказала бабушка моей маме. И припечатала, не заботясь о том, слышу я или нет: – Твое педагогическое фиаско.
Да, каждую мою неудачу мама воспринимала как плевок ей в душу. Она, вкладывавшая в меня столько сил, рассчитывавшая гордиться мною, получила на выходе ребенка сомнительных достоинств. Гордиться было нечем. Она злилась и кричала на меня, а я только тупо моргала, вжав голову в плечи. «Никчемная девица» привязалось ко мне: мама нашла объяснение своим неудачам в том, что ей выдали изначально бракованный продукт, и не уставала напоминать мне об этом.
Примерно тогда я начала заикаться и ронять все, до чего случайно дотрагивалась. С возрастом прошло лишь заикание.
– Единственное, в чем ты превосходишь других детей – так это в неуклюжести, – сухо сказала мама, когда в десять лет я уронила новогоднюю елку. – «Слон в посудной лавке» в отношении тебя звучит как комплимент.
– Косорукая Лиля, – вздохнув, добавила тетя Лера, и это прозвище тоже надолго закрепилось за мной.
Панно, которое мама склеивала из осколков разбитой мною посуды, увеличивалось с каждым годом, и я в ужасе закрывала глаза, проходя мимо него. Оно разрасталось, меняло форму, ухмылялось щербатым оскалом из чашечек, блюдечек, тарелочек… Оно пожирало все мои попытки стать ловкой и аккуратной, пережевывало их с хрустом, какой слышится, если наступить на осколки тонкого фарфора, и брезгливо выплевывало в меня острую белую крошку.
А в восемнадцать лет я вышла замуж за Олега. Это был первый мужчина в моей жизни, и первый, кто предложил мне выйти за него замуж. Мне показалось, что он любит меня, а я – его, и я согласилась.
Как ни поразительно, но Олег мигом нашел общий язык с моими мамой и тетей! Он до слез хохотал над их рассказами об идиотских ситуациях, в которые я попадала, а вскоре и сам смог добавить в архив семейных преданий много веселого. Втроем они признали, что меня нужно оберегать от самой себя и никто лучше Олега не годится на эту роль.
Он оказался существом того же вида, что и вся моя родня: творцом, художником, взирающим со снисходительным сожалением на тех, кому ничего не дано. И мама не стеснялась напоминать, как невероятно, сказочно мне повезло. Помимо таланта к Олегу прилагалась красивая фамилия – Чайка, и постоянный доход от продажи картин. «Лиля, ты очень счастливый человек, – строго говорила тетя. – Очень! Ты не заслужила такого счастья».
Не знаю, чем объяснить, что первый год моего брака я была несчастна настолько, что не могла даже плакать. Наверное, мама была права, называя меня истеричкой. Но в октябре родился Федя, и все изменилось: как будто я всю жизнь жила без солнца, а потом наступил рассвет. Или как если бы человека, родившегося в пустыне и видевшего вокруг только песок, привезли на берег океана.
До сих пор у меня в ушах иногда звучит обвиняющий хор голосов.
Мамин: «Тебе нельзя доверить ребенка, ты его уронишь!»
Тетин: «Воспитанием вашего сына должен заниматься Олег!»
Мужа: «Ты ни к чему не способна!»
Клянусь, я старалась изо всех сил! К счастью, с Федей моя злосчастная неуклюжесть куда-то исчезала. Он рос чудесным мальчиком, жизнерадостным, хохочущим по любому пустяку. Олега его заливистый громкий смех выводил из себя, и он требовал, чтобы мы оба замолчали. Мы с сыном прятались под стол, устраивали палатку из одеял и сидели там, как заговорщики: я рассказывала тысячи историй, сочиняя их на ходу, он слушал с широко раскрытыми глазами, поблескивавшими в темноте. «Ма-ам, а что было дальше с царевичем Хлоркой?» (я не умела придумывать имена и заимствовала их у окружающих предметов. У Царевича Хлорки был враг, принц Вантуз, и невеста, принцесса Духовка).