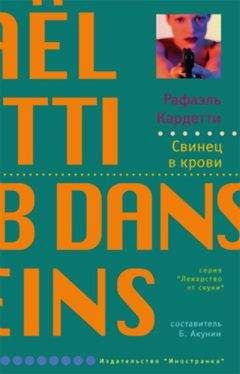Рафаэль Кардетти - Парадокс Вазалиса
Мысль об этом сводила Давида с ума. Он был ошеломлен, почти оглоушен случившимся. При этом он никогда не питал к Альберу Када теплых чувств. По правде сказать, некоторые аспекты личности профессора его раздражали, и весьма сильно. Всего за пару минут этот очаровательный человек мог превратиться в индивидуума холодного и сдержанного, притом что вы даже не догадались бы о причине этой перемены настроения.
Спровоцировать столь резкое изменение могла самая малость — неуместное слово, ошибочная цитата. Тогда он на протяжении нескольких недель отказывался встречаться с Давидом под тем предлогом, что одно лишь присутствие последнего мешает ему мыслить ясно. Даже когда профессор проявлял к своему протеже относительную доброжелательность, его комментарии бывали столь высокомерными, что следующие пару дней Давид всерьез рассматривал возможность положить досрочный конец своим исследованиям.
Но Альбер Када предложил ему тему диссертации, в то время как остальные коллеги отказали, что само по себе заслуживало выражения признательности. Позднее, когда научная комиссия университета поставила под сомнение важность его изысканий и отказала Давиду в стипендии, Альбер Када публично за него заступился. Начал профессор с того, что вслух высказал все, что думал о каждом из членов комиссии, после чего обжаловал их решение, и только лишь для того, чтобы Давид мог отказаться от своих небольших подработок и всецело посвятить себя докторской. Крики Альбера Када долгие недели раздавались во всех административных службах Сорбонны.
В конце концов декан пригласил к себе их обоих — и профессора, и самого Давида. Сидя за огромным столом в окружении портретов выдающихся предшественников, он, вероятно, полагал, что одним лишь престижем своей должности сможет произвести на них впечатление и заставить их осознать, каким рискам они подвергают себя, идя на открытую конфронтацию с комиссией, однако же комментарии декана не возымели должного эффекта на его собеседников.
Обзаведясь научным руководителем, Давид ощутил неимоверный подъем сил, и будущее представлялось ему победоносным маршем к университетским вершинам. В то время он думал, что стоит лишь защитить докторскую — и все проблемы уйдут сами собой. Диссертация была единственным, что имело тогда значение. Декан мог сколько угодно нервничать и даже получить инфаркт — ему на это было абсолютно начхать.
Что до Альбера Када, то тот слишком давно работал в университете, чтобы бояться угроз начальства и опасаться каких-либо последствий. Долгие разглагольствования декана он выслушал совершенно безучастно, ничем не выказав ни раздражения, ни нетерпения.
Когда тот умолк, Альбер Када адресовал ему ответ, который в спокойном и приобщенном к культуре университетском мире был сродни термоядерной атаке:
— Вот слушал я вас и вдруг почему-то припомнились мне такие слова Софокла: «Всякий, кто явится к тирану, становится его рабом, даже если пришел к нему свободным». Чем вы можете вознаградить меня за лояльность? Более просторным кабинетом? Назначением на должность председателя какой-нибудь комиссии? Новым шкафом для моих книг? Полноте, будем серьезными… Считайте, что этого разговора не было… А теперь, если вы не против, мы вас покинем.
Захваченный врасплох, декан побледнел. Как всегда, когда он чувствовал себя не в своей тарелке, пальцы его скользнули к ленточке ордена Почетного легиона, которую он гордо носил на лацкане пиджака. Он немного приосанился, когда вспомнил, что эти же слова Софокла звучали из уст Помпея, когда того убили, а затем обезглавили на египетском взморье, где он укрылся в попытке избежать мести Цезаря.
Как и в случае с Помпеем, погибшим из-за недооценки безжалостного врага, излишняя самоуверенность Альбера Када играла против него. Когда-нибудь благоразумие его оставит, и он совершит роковую ошибку. И когда это случится, он, декан, лично отрубит голову у еще теплого трупа и доставит себе радость, повесив ее на стену, прямо напротив своего стола. Возможно, даже прикажет выгравировать под этим бессмысленным трофеем сентенцию Софокла. До чего ж нужно быть глупым, чтобы верить, что простодушию по силам соперничать с мечом сильных.
— Раз уж вы перешли на такой тон… — проронил он наконец, для виду погрузившись в чтение некого крайне важного министерского циркуляра. — Вы знаете, где находится выход, господа. Буду вам признателен, если вы не забудете закрыть за собой дверь.
В тот самый момент, когда приглашенные уже выходили из кабинета, декан едва заметно приподнял голову и дрожащим от гнева голосом бросил последнее предупреждение:
— Ваше поведение меня отнюдь не удивляет, дорогой коллега. Но не забывайте, что в нашем мире за все приходится платить. Я дождусь, когда вы вновь допустите оплошность, и когда это произойдет — а это обязательно произойдет, будьте уверены, — можете не рассчитывать на какое-либо сострадание с моей стороны. Что касается вас, молодой человек, то ваш выбор закроет для вас в будущем гораздо более герметичные двери, нежели эта. Боюсь, когда вы осознаете всю тяжесть последствий своего решения, будет уже слишком поздно…
Альбер Када захлопнул дверь, не дождавшись окончания фразы. Последние слова декана затерялись позади них, приглушенные плотным деревом.
Пожилой профессор философии положил тогда руку на плечо своего подопечного и увлек его в длинный темный коридор. То был единственный знак симпатии, которого удостоился от него Давид за все годы их сотрудничества.
Несмотря на удовлетворение тем, что ему удалось не уступить давлению декана, лицо Альбера Када выражало глубокую усталость, вызванную сорока годами взаимного непонимания с учреждением, в котором он работал.
— Оставим этого придурка барахтаться в его неисправимой глупости, — промолвил он, натужно улыбнувшись. — Пойдемте лучше продолжим наш захватывающий диалог с прошлым — уж оно-то не должно нанести нам удар в спину. По крайней мере, надеяться на это можно…
С того дня чувство признательности, которое ощущал Давид по отношению к Альберу Када, едва уравновешивалась страхом перед деканом. Из суеверия он избегал последнего, как чумы, и старался не подходить ближе, чем на тридцать метров к коридору, зарезервированному для руководящих инстанций Сорбонны.
Эта предосторожность становилась тем более необходимой теперь, после смерти профессора, так как отныне никто не пришел бы ему на помощь, возникни у декана желание стереть его в порошок, а Давид нисколько не сомневался в том, что возможность преподать ему очередной урок доставит заклятому врагу его научного руководителя бесконечное удовольствие.
Попытка прошмыгнуть в университет неузнанным успехом не увенчалась. Декан еще издалека заметил его в толпе и при помощи локтей начал пробиваться к нему сквозь ряды зевак.
Он окликнул Давида в тот момент, когда тот уже намеревался войти в холл библиотеки.
— Эй, вы! Да, вы, Скотто… Подождите, мне нужно сказать вам пару слов…
Давид застыл на месте, не зная как быть. Библиотека представляла собой вполне достижимое убежище, но в ней имелся лишь один выход, и, в силу того, что монументальная лестница и входная калитка остались далеко за спиной, он в любом случае попадал в западню, словно мышь в мышеловку.
Отдавая себе полный отчет в том, что бежать Давиду некуда, декан приближался не спеша, величественной походкой победителя, дождавшегося часа окончательного триумфа. Весть об оскорблении, полученном им из-за Давида, облетела три года назад весь университет. Такая обида требовала примерного наказания.
— Должно быть, вы удручены, — произнес он, достаточно громко для того, чтобы это услышали все окружающие. — Какая огромная потеря для нашего университета! Сорбонна потеряла одну из своих твердынь. Мы все оплакиваем вашего покойного учителя.
Естественно, в сказанном деканом не было ни слова правды, напротив, на его лице читалось очевидное облегчение. Мало того, что он раньше, чем планировал, избавился от надоедливого преподавателя, так еще и получил в свое распоряжение свободную кафедру, которую мог теперь доверить одному из многочисленных протеже. Победа была полной.
Давай — и ты получишь. Это древний девиз декан давно сделал своим. Королевство, в котором он правил на правах абсолютного монарха, было до оснований подточено гангреной тщеславия. Чем больше декан наделял незначительными фрагментами своей власти окружавших его просителей, тем больше ощущал, как распространяются вокруг него восхитительно приятные флюиды благодарности.
Альбер Када был единичным исключением в этом насквозь прогнившем мире, где каждый жест требовал признания. Ему не было места в подобной вселенной. Его исчезновение соответствовало естественному порядку вещей.