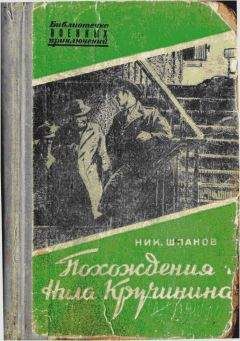Николай Шпанов - Ученик чародея
И снова прозвучал голос Магды.
— Снимите повязку с моей головы.
Врачи вопросительно взглянули на Ланцанса.
— Что ж, пусть посмотрят, — злобно сказал епископ. — Мне уж мало что придётся добавить…
Когда с головы Магды упали бинты, Ланцанс отвернулся. Неужели то, что он видел теперь перед собой, было головой Магды!.. Неужели это голова существа, созданного всевышним по образу и подобию своему?!
— Видите?.. — медленно выговорила Магда. — Говорят, что я умру, если буду говорить… Так я же умру, если и не буду говорить… Уж лучше я скажу вам правду… Чтобы вы знали… — Она умолкла, откинувшись на подушку. Над толпою, над всем плацем и даже над трибуной, где стояли Шилде и Ланцанс, висела тишина. Людям хотелось утишить биение своих сердец, чтобы они не заглушали ни одного слова Магды. Ланцанс в уме пересоставлял подготовленную речь: она будет разить красных, как меч архангела, она прозвучит, как громовой полос с неба. Между тем Магда продолжала: — Сестры, братья… подойдите ко мне… Ближе… Станьте по сторонам. Верьте каждому моему слову, говорю, как перед богом: я не была в Восточной Германии… Это сделали они сами, тут, чтобы отбить у вас охоту проситься на родину… к своим… Это они… они!..
Все было так неожиданно. Прошла почти минута, прежде чем Шилде нашёлся:
— Она сошла с ума!.. Разве вы не видите: она сошла с ума!
— Ну, нет, — раздалось из толпы. — Пусть она говорит… Говори, Магда! Говори… говори! — неслось над толпой. И это уже нельзя было подавить. Магда говорила. Она сказала совсем немного. Может быть, всего двадцать слов. Но двадцать зарядов самого сильного взрывчатого вещества не могли бы сделать того, что сделали слова «тупой деревенщины», бросавшей в пространство над толпой свои последние слова, вложенные в правду.
Епископ застыл, судорожно вцепившись в перила трибуны.
— Во имя отца и сына!.. — громким голосом привычного проповедника крикнул Ланцанс, и его пальцы сложились для крёстного знамения. Словом «аминь», наверно, должна была закончиться фраза, но вместо того обломок кирпича просвистел над толпою. Это было так стремительно и так неожиданно, что Ланцанс не успел увернуться. Кирпич ударил его в лицо. Епископ упал через загородку трибуны. Как раскат грома, над толпою пронеслось подхваченное тысячами голосов:
— Аминь!.. Аминь!..
Это звучало, как надгробный вопль для Ланцанса, которого уже вытащили из-за трибуны. Масса голов закачалась, как волны на море, — взад, вперёд, снова назад и, наконец, с новой силой вперёд, все вперёд, как девятый вал прибоя, заливая рухнувшую трибуну. Если бы десяток тех, кого Магда подозвала ближе к себе, не поднял её носилки над головами, она была бы смята вместе с трибуной, рухнувшей наземь под неудержимым напором человеческих тел. И тут тот, кто не верит в разум толпы и считает её волю стихийно неразумной, тот, кто уподобляет сборище людей «стаду», мог бы воочию убедиться, как разумна бывает воля массы, не руководимой иным вожаком, кроме сердца и разума каждого из тысяч в толпе. Биение этих сердец и зов этого разума сливаются в один могучий, непреодолимый порыв девятого вала человеческой воли. Тысячи человеческих тел, подобно прибою устремившихся к трибуне, расступились вокруг носилок Магды и обтекали их, как струя горного потока, сметающего на своём пути мосты и плотины, обтекает стоящую посреди течения скалу. От трибуны ничего не осталось. Ланцанс исчез, растоптанный тысячами ног. Люди устремились к воротам лагеря с криками:
— На родину… На родину!..
Люди достигли уже ограды лагеря, трещали столбы, рвалась в клочья сетка, служащая теперь хозяевам «перемещённых», как прежде служила гитлеровцам…
И вдруг задние ряды бегущих наткнулись на тех, кто был перед ними. Те на следующих. И так до самых передних рядов. Первый ряд остановился. Прямо в лица людей глядели чёрные немигающие отверстия автоматных дул.
— Долой Центральный совет… — понеслось над толпой, и задние ряды нажали на передних. Автоматы?.. Да разве власти решатся пустить их в ход против нескольких тысяч людей, которые хотят только того, чтобы их пустили домой.
— На родину… на родину!..
Но автоматы не понимали человеческого языка. К тому же разве перед автоматами были люди? Ведь они же только «перемещённые». Рот офицера раскрылся, закрылся — и в тот же миг чёрные немигающие глазки автоматов перестали быть чёрными, они замигали часто, часто.
Но что случилось с этими людьми? Неужели желание вернуться в свою отчизну сильнее страха смерти? Неужели двадцать слов, сказанных простой крестьянской девушкой, могли взорвать воздвигнутую перед этими людьми плотину лжи и страха? Почему отступает офицер? Почему отступают солдаты с автоматами? Неужели их огонь слабее воли этих людей, желающих вернуться на родину? Неужели двадцать слов простой крестьянской девушки…
Офицер повернулся и побежал. Один за другим солдаты бросали автоматы и бежали за офицером. Как напор всепобеждающего потока свободы, мчались за ними тысячи тех, кто в эту минуту перестал считать себя «перемещёнными», кто снова стал латышами, сынами своей отчизны. На пути к родине, к свободной Латвии, их, людей раскованной воли, не мог удержать никто.
99. Мысли в тумане
День шестидесятилетия Кручинина начался двумя неожиданными визитами. Спозаранку, когда Кручинин был ещё в пижаме, явился Мартын Залинь. Гигант смущённо, как слон в клетке, долго топтался в прихожей, прежде чем выговорить формулу поздравления.
— Откуда вы знаете? — удивился Кручинин.
Залинь, в свою очередь, с нескрываемым удивлением посмотрел на него:
— Опытный вы человек, Нил Платонович, — проговорил он с укоризной в голосе, — кажется, уж проникли нашего брата насквозь, а такую вещь спрашиваете!.. Чего же мы не знаем, скажите на милость?
Кручинин рассмеялся, поблагодарил за поздравление и не успел опомниться, как гость, с непостижимым для его размеров проворством, нырнул в дверь. За его спиной повисло в воздухе:
— Никак невозможно опаздывать… Производство!..
Кручинину показалось, что в слове «производство» прозвучало что-то, схожее с гордостью. Топот тяжких шагов Залиня уже затих на лестнице, когда Кручинин заметил на подзеркальнике маленький пакетик, кокетливо перевязанный розовой ленточкой. После некоторого колебания Кручинин распустил бант, без всякого сомнения, завязанный рукою Луизы. В розовой же бумаге лежал отлично сделанный кастет. Оружие было распилено пополам. В распил засунута записка: «Это навсегда. Спасибо. Луиза. Мартын». Кручинин по достоинству оценил это лаконическое сообщение. Оно было неплохим подарком ему, считавшему, что он ищет истину и для тех, кто от неё бежит.
Не менее неожиданным и приятным был приезд из С. Инги с Силсом. По словам Инги, Карлис ни за что не хотел ехать. Даже в дверях кручининской квартиры он ещё упирался, считая, что Кручинин ему не доверяет. Он поехал только потому, что Инга сказала: праздник Кручинина — праздник Грачика.
— Что ж, — согласился Кручинин. — Вы правы. Наше единство с Грачем — это единство старого ствола и молодого побега. Как говорится в стихе: «Мне время тлеть — ему цвести».
Кручинин пожалел о том, что и они, подобно Залиню, спешат ко второй смене на комбинат и не могут дождаться приезда Вилмы с Грачиком. Гости не заметили, какими тёплыми огоньками загорелись глаза Кручинина, когда он заговорил о Вилме. Да и могло ли прийти в голову им, до краёв переполненным собственным счастьем, следить за выражением чьих бы то ни было глаз. Для Силса существовали только одни глаза — глаза Инги, для Инги — только глаза Карлиса.
Кручинин в задумчивости смотрел вслед молодой паре. Странно то, что вчера ещё представлялось неважным — фраза «может быть, завтра или через месяц, а может статься и через год» — сегодня вдруг приобрело новое, удивительное значение. Неужели таково необъяснимое действие этой даты: «60». Неужели нужно так ясно увидеть её перед собой, чтобы понять необходимость сохранить накопленное нелёгким опытом целой жизни! Своего рода «Завещание чародея»!.. Накопленное принадлежит народу, партии. Сложись жизнь иначе, не приди он к партии — ему, может быть, и не удалось бы пройти её тем путём, каким она его провела. Предмет его «завещания» — живой человек, только в руках следователя остающийся ещё таким, каким он пришёл. Чем дальше, тем меньше этот, живой человек становится похож на самого себя. Да, именно следователь сталкивается с живой, кровоточащей раной преступления, с первым криком проснувшегося в человеке строгого судьи — его собственной совести. Ох, как много нужно сказать! Когда не видно конца жизни, то кажется будто сказано всё, что нужно. А вот стоит увидеть вдали этот конец с тою реальностью, с какой он видит его сейчас, и становится ясно: сказано куда меньше, чем осталось сказать… Разве можно уложить целую жизнь в несколько тетрадей даже самых бережных записей. И кто знает, будет ли он так же работоспособен через месяц, через год…