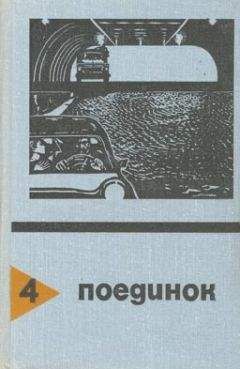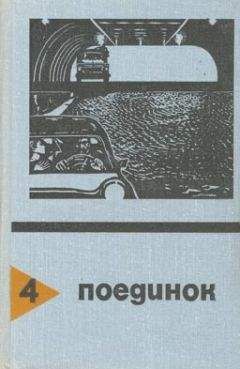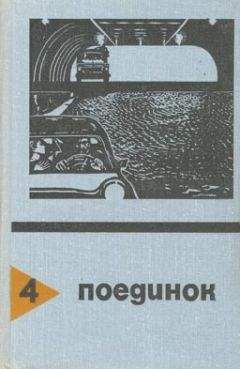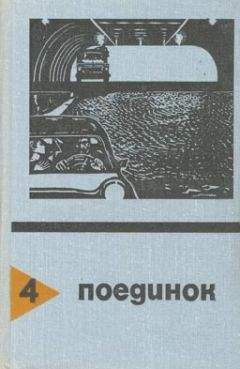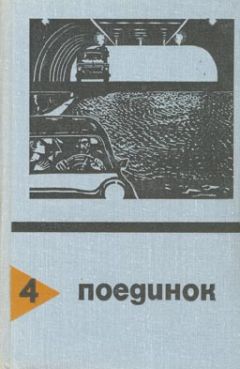Ал. Азаров - Чужие среди нас
Вспомнил я тут Зосю с кукольной её красотой и неправдоподобно чистыми, глупыми глазами, её тоненькие ноготки с маникюром, кокетливое платье, представил рядом с ней Чеслава, бедно одетого, молчаливого, внешне неинтересного, и стал кое-что понимать.
И совсем уже к месту всплыла в памяти строчка из заключения судебного медика: «…со знанием анатомии».
Сижу и ругаю себя на все лады. Ах ты, думаю, слепец, чистой воды слепец! Как мог упустить ты из виду эту деталь — такую яркую и красноречивую? С неё и надо было начинать. Она — ко всему ключ!
16
Но мотивы? Мотивы?
Их следовало искать в прошлом Чернышева и Михайловских, в тех днях, что ушли, не сохранив видимых следов. Где-то, не разысканные, жили свидетели тех дней и событий. Но многое ли запомнили они? Остались ли в их памяти слова, понятные лишь посвященным и ничего не значащие для постороннего? Жесты, улыбки, слезы, неисчислимое количество малых величин.
Ни в день, ни в два, ни за неделю даже восстановили мы по мелочам историю взаимоотношений Чернышева и Зоси, Зоси и Чеслава, Чеслава и Чернышева.
Уже в самом начале простое сопоставление Зося — Чернышев озадачивало нас. Что привлекло её, красивую, избалованную вниманием, к малорослому и совершенно непривлекательному Чернышеву? Любовь?.. Возможно. Но тогда это какая-то странная любовь! Любовь, при которой «она», как показал один из свидетелей, запирается от «него» в своей комнате и просит соседей не пускать «его» в квартиру… Деньги и положение?.. Счетовод второго разряда в конторе депо — не бог весть какая находка с точки зрения имущественного и должностного ценза!.. Тогда что?
Страх?
Но чего ей было бояться? Чем мог держать её в руках слабосильный Чернышев, за которым не стояло ничего, внушающего ужас и трепет?
Рассказывать о всех наших встречах, беседах я, пожалуй, не стану. Скучное и неблагодарное это занятие. Да и как перескажешь, к примеру, хотя бы приблизительно, сотни вопросов, заданных одним лишь сослуживцам Зоси и Чернышева, и сотни ответов, на них полученных? В деле они заняли не одну, а целых три папки — на сей раз установленного законом формата и снабженных не вызывающими улыбку архаическими надписями, а регистрационными номерами и грифом «Прокуратура Российской Советской Федеративной Социалистической Республики».
В чём следовало искать разгадку странной власти Чернышева над Зосей? Я полагал, что в его прошлом. Комаров был убежден, что в прошлом Зоси. И оказался прав.
Анкета и автобиография Зоси Михайловской, полученные мною в поликлинике, оказались источником предельно скупым. Родилась в 1900 году в семье рабочего. До 1921 года жила с отцом в Нижнем Новгороде. Девичья фамилия — Лаптева. Окончила классическую гимназию. Вот и всё, пожалуй.
И не случись одного совпадения, не стали бы мы, возможно, проверять этот этап Зосиной биографии. А совпадение было в том, что Чернышев до революции жил тоже в Нижнем и учился в реальном, поскольку происходил из семьи купца третьей гильдии.
Новгородская милиция недолго медлила с ответом на наш запрос. В засургученном пакете лежало такое, что, образно говоря, снимало с Зоси Лаптевой засаленное платьишко дочери рабочего и обряжало её в немалой стоимости туалеты единственной наследницы флигель-адъютанта и генерал-майора Иллариона Фадеевича Лаптева, монархиста и черносотенца, сделавшегося после крушения империи видным участником белого подполья и ушедшего из мира не по собственной воле, а согласно приговору коллегии ВЧК. По тому же приговору Зося Лаптева была признана виновной, но наказания избежала, исчезнув из Нижнего в неизвестном направлении. Нижегородские чекисты объявили местный розыск, но толку не добились и, заочно осудив «девицу Лаптеву 3.И., двадцати одного года», успокоились, так как активной роли в организации она не играла, и мера была ей определена минимальная — месяц исправработ.
Знала ли Зося о приговоре?
Очевидно, знала.
А Чернышев?
Знал и он!
Комаров доказал мне, что это так.
— Сообрази-ка, — говорит, — мы ищем с тобой, в чём была его власть над ней. Тайну её ищем. А то иначе не понять — как же он её к любви склонил…
Сколько раз наяву мерещились мне тонкие Зосины руки с вишневым лаком на ноготках. Ведь это они — слабенькие на вид, но цепкие — передавали заговорщикам тайные послания; они обнимали Чернышева, и они же нанесли ему отлично рассчитанный удар — единственный и смертельный.
Глупая?
Ну уж нет! Теперь я не считал Зосю глупой. Сумела же она подчинить себе Чеслава и превратить сначала в укрывателя, а затем и в соучастника. И как же ловко подсунула она нам мужа вместо себя! Всё предусмотрела, даже побег; при этом, организовывая отъезд Чеслава, во всех случаях оказывалась она в выигрыше. Ускользнет он от нас — усилит подозрение против себя. Арестуют его — опять неплохо: взят при попытке к бегству…
Но недаром говорят, что сила — форма слабости.
Зося, не вызываемая нами на допрос, уверенная, что Чеслав благополучно уехал и тем самым сбил нас с толку, — Зося, пребывающая в полнейшей уверенности, что имеет дело с простофилей (как она тогда разыграла сценку с истерикой), — она не готовилась к новой встрече со следствием…
Однако и мы всё же недооценили её.
17
Ох уж этот Пека! Всё на нём горело. Редкая у него была способность самую крепкую и порядочную вещь в короткий срок превращать в образцово-показательный утиль. По-моему, никто из мальчишек на Молчановке и Собачьей площадке не выдерживал соревнования с ним. С легкой руки Комарова пришлось и мне обучиться портняжному и сапожному ремеслу. Мастером я оказался не ахти каким по части красоты, но залатать штаны или пришить дратвой подметку всё же мог. Пока она была, разумеется, эта подметка!.. Но вот что делать, коли стёрлась она до основания? Решить эту задачу оказалось мне не по силам. Да и Комаров-старший спасовал.
— Конец, — говорит. — Придется тебе, Пека, дома загорать. Ждать то есть, когда соображу на новые ботинки.
…Для пополнения гардероба в те годы было два пути. Один вёл в Торгсин, другой — в распределитель. Увы, применительно к Пекиным печалям оба они не подходили. Торгсин торговал на боны. Чтобы иметь их, надлежало сдать торгсиновским приемщикам золото или хрусталь, драгоценные камни или коллекционный фарфор. Небогатое наше государство продавало такие вещи за границей, а оттуда ввозило ткани, обувь, продукты. К сожалению, золота и прочих ценностей у нас с Комаровым не было, а следовательно, Торгсин отпадал.
Ассортимент распределителя был поуже торгсиновского, но и там имелись и обувь, и ткани, и одежда. И каждый имел счастье получать их время от времени, если удавалось выколотить ордера из соответствующей хозяйственной инстанции.
Ордером мы с Комаровым тоже не располагали. Не было у нас синенькой бумажки с круглой печатью.
Мы совсем уже было впали в отчаяние, как вдруг прокурор сыграл роль ангела-хранителя и вручил мне… ну да, конечно, ордер. На обувь. Точнее, на галоши.
— Понимаете, — говорит, — дали эту штучку, а она мне ни к чему. Смешно как-то — галоши. Зачем они мне? Берите. Так сказать, володейте и всё такое прочее…
Ордер этот прокурор оторвал, что называется, от живого, с риском для здоровья — в переносном смысле, да и в прямом тоже, поскольку подметки у него на туфлях были худые, текли, а весенняя холодная грязь, как известно, лучший помощник разных простуд.
Подумал я об этом и хотел было отказаться от подарка, но вспомнил Пеку, сидящего «на приколе», и… взял.
В воскресенье отправились мы с Пекой в магазин. Вымолил я у заведующего вместо галош ботинки, обул Комарова-младшего, и в самом расчудесном расположении духа отправились мы с ним гулять на Бульварное кольцо. И — встретили Зосю.
Если б не окликнула она меня, то я бы её не узнал — сильно она изменилась. Похудела. Поблекла как-то. Одни глаза прежние — огромные, голубые, из юношеского сна.
— Гуляете? — спрашивает и улыбается едва-едва, самыми уголками губ. — Это ваш сын?
— Сын! — говорю.
— Большой…
— Большой, — говорю, а сам думаю: «Вот, черт, столкнула нас нелегкая! И надо же!» — Извините, — говорю, — нам сюда…
— И мне…
Не гнать же её?
Прошагали мы по бульвару до Никитских ворот: я впереди, Пека где-то сбоку, сам по себе, а Зося чуть сзади — еле поспевает за моим быстрым шагом, но держится, не отстает.
И тут я взбесился. Остановился, поправил очки и говорю — с максимально возможной грубостью:
— Послушайте, неужели вы не видите, что нам не по пути?
— Вижу, — говорит.
— Вот и идите своей дорогой!
Улыбнулась она. Тихо, бесцветно.
— Зачем же, — говорит, — грубить?
— Затем, — говорю, — что болтать с вами о цветочках и погоде не намерен!
— Что ж, — говорит, — до свидания.