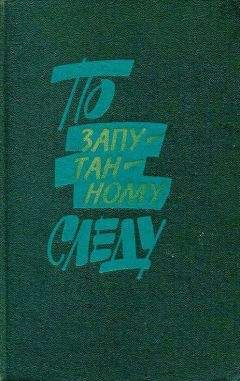Анатолий Безуглов - Конец Хитрова рынка
В отличие от него Эрлих поставил сведения, сообщенные Шамраем и Гудынским, во главу следствия. Это был стержень, на который нанизывались остальные улики, и, нужно отдать Эрлиху должное, весьма удачно нанизывались.
Судя по протоколам, Явич-Юрченко, державшийся на первых допросах достаточно хладнокровно, стал потом нервничать, а поняв, что тучи над ним сгущаются, выдвинул алиби, которое тут же было опровергнуто. Допрошенная Эрлихом уборщица железнодорожной станции Гугаева опознала Явича-Юрченко. Она заявила, что видела этого человека на перроне в ту ночь, когда горела дача.
Алиби опровергалось показаниями бывшего эсеровского боевика Дятлова, арестованного НКВД в Москве за организацию подпольной типографии. Дятлов, знавший Явича-Юрченко по эмиграции, после войны вступил в РКП(б) и примкнул к троцкистам. За оппозиционную деятельность Дятлова дважды исключали из партии, но после покаянных заявлений восстанавливали. Последние годы он жил в Ярославле, где работал управделами строительного треста. В Москву Дятлов приехал в служебную командировку и пытался достать здесь шрифт для нелегальной типографии. Остановился он у Явича-Юрченко, с которым поддерживал отношения. Дятлов показал, что с 25 на 26 октября Явич-Юрченко пришел домой только под утро. «Поздно гуляешь», — сказал ему проснувшийся Дятлов. «Боюсь, как бы это гулянье плохо не кончилось», — ответил Явич-Юрченко и посоветовал Дятлову найти другую квартиру, что тот и сделал, перебравшись к сестре жены.
В Ярославле, на квартире у Дятлова были обнаружены два письма Явича-Юрченко, в которых содержались выпады против Шамрая.
Все это, разумеется, было только косвенными уликами. Но их становилось все больше, а количество, как известно, рано или поздно переходит в качество…
Да, дело это было для Фуфаева, по его выражению, «броским».
— Подозреваемый из троцкистов? — с надеждой спросил Фуфаев.
— Нет, — сказал я. — Не то?
— Конечно, — Фуфаев поморщился. — Но ничего, сойдет.
Прозвенел звонок, возвестивший об окончании перерыва, и мы поднялись.
— Делу — время, потехе — час. Пошли. А с этим Чуркиным…
— Чураевым, — поправил я.
— Ну Чураевым… Так ты должен правильно понять. Тут не ведомственные интересы. Тут политика. — Он поднял вверх указательный палец. — Большая политика! Понял!
— Понял. А ты хоть что-нибудь понял из того, что я сказал?
Фуфаев вздохнул и укоризненно заметил:
— Все смеешься, Белецкий?
— Да уж какой тут смех. Слезы…
— Странный ты человек, Белецкий, очень странный!
В голосе Фуфаева звучало искреннее недоумение. Кажется, он сам не мог понять, примером чего являюсь я…
VII
Новый год по установившейся традиции я встречал у Сухоруковых. Оставаться один на один с собой мне не хотелось, а Виктор просил, чтобы я пришел пораньше. Пораньше — понятие растяжимое. И, только увидев Сухорукова в переднике поверх коверкотовой гимнастерки и с закатанными по локоть рукавами, я понял, что перестарался.
— Поспешил?
— Ну что ты! — неуверенно сказал Сухоруков, подставляя мне локоть (руки у него было испачканы). — Раздевайся. Как говорит Цатуров, первый гость — первая радость.
В затруднительных случаях Сухоруков всегда обращался к восточной мудрости, которой Цатуров с кавказской щедростью снабжал в неограниченном количестве всех желающих.
— Насчет радости не знаю, но на улицу теперь уже не выгонишь, — сказал я, вешая шинель на крючок. — А передник тебе идет, одомашнивает как-то.
Из кухни выглянула раскрасневшаяся у плиты жена Виктора Мария Дмитриевна, веселая, круглолицая.
— Александр Семенович? С наступающим вас. От всей души — счастья, здоровья, многих лет жизни… В общем — всего, чего сами желаете, — зачастила она. — А я все думаю, с кем там Виктор разговаривает…
— И не выдержала, — поддразнил Сухоруков.
— И не выдержала, — она засмеялась. — Что же вы в передней? Проходите в комнату.
Она взяла у меня из рук картонку с тортом, быстро распутала замысловатый узел и, взглянув на торт, ахнула:
— Красота-то какая! Даже есть жалко…
— А мы его есть и не будем, на стену повесим, — пошутил Виктор, рассматривая вместе с женой исполненные разноцветным кремом башни Кремля, дирижабль и усыпанные цукатами самолеты.
— Если я один цукат стащу, ничего? — спросила Мария Дмитриевна.
— Ничего, — сказал Сухоруков.
— Ну как там, помочь по хозяйству?
Мое предложение отвергли, а меня самого отправили в комнату, где мною должен был заняться по возвращении из магазина сын Сухорукова Октябрь. Октябрь Викторович Сухоруков…
В то время было немало странно звучащих теперь имен: Медера (международный день работницы), Одвар (Особая Дальневосточная армия), Лагшмира (лагерь Шмидта в Арктике), Персострат (первый советский стратостат) и даже Оюшминальда (Отто Юльевич Шмидт на льдине). А один мой приятель, к ужасу жены и тещи, назвал сына Пятьвчетом, что означало: пятилетка в четыре года. Но среди этих имен Октябрь и Октябрина были наиболее распространенными.
Сейчас мало кто остался в живых из тех, кого нарекли Октябрем. Мальчики рождения 1918-1922 годов первыми приняли удар в 1941 году. Среди погибших в начале войны был и командир пехотного взвода Октябрь Викторович Сухоруков. Тот самый светловолосый Октябрь, который на вопрос анкеты «Комсомольской правды» об идеалах ответил: «По политической линии — Ворошилов и Буденный, в области физкультуры — Люлько, Денисов и братья Знаменские», — а на выпускном вечере в школе читал гремящие, как набат, стихи:
В Риме, в Париже, в Берлине, в Варшаве
Слушай внимательно, недруг и друг:
Порох сухой у нас, штык не заржавел,
Крепче, чем прежде, и тело и дух!
Но это было позднее… А в канун тридцать пятого года Октябрь был еще только мальчишкой, которому поручили развлекать гостя, старого друга отца, — обязанность почетная, но скучная. Поэтому на физиономии моего собеседника можно было одновременно прочесть и гордость и тоску.
Разговор у нас не клеился. Найти правильный тон в беседе с подростком — искусство, а я им не владел и больше всего опасался фальши, которая так часто присутствует в подобного рода разговорах, когда взрослый пытается подладиться под уровень своего собеседника. Октябрь чувствовал мою скованность, и это еще более осложняло и без того сложную ситуацию.
Он был очень похож на отца: такой же скуластый, узкоглазый, с крупным ртом и волевым подбородком.
Таким был Виктор перед войной четырнадцатого года, когда считался моим покровителем и признанным героем гимназии. Один из немногих сыновей рабочих, которым удалось попасть в это сравнительно привилегированное учебное заведение, он старался быть во всем первым — будь то латинский язык или драка с реалистами. Большой физической силой он не обладал. Сильней его были и неповоротливый богатырь Васька Мухин, и кокетничающий натренированными мускулами красавец Юханов. Но Виктора отличали от них не только ловкость, но и стойкость. И если уж он вступал в бой, то дрался до последнего, никогда не покидая поля сражения. Мухин мог струсить. Юханов, тщательно следивший за своей внешностью, мог, забыв про драку, отправиться делать примочку. Виктор был не таков. Поэтому реалисты и называли его одержимым. Это прозвище закрепилось за ним и в гимназии, а наши доморощенные пииты «обессмертили» его имя даже в старших классах, откуда к нам, вопреки неписаным гимназическим законам, несколько раз заходили великовозрастные юноши и со снисходительной небрежностью баском спрашивали: «Это который у вас тут Сухоруков?»
Но рассказывать сыну о детстве отца принято с поучительной интонацией, а Сухоруков не считал гимназические годы лучшей страницей своей биографии. Что и говорить, тяжелое положение!
Я посмотрел на узловатые пальцы Октября и деликатно спросил:
— Боксом занимаешься?
— Нет, некогда.
— А… дерешься?
Он удивленно посмотрел на меня:
— Ну что вы, дядя Саша! Ведь драки — это пережиток. Я почувствовал, что краснею. Какие, к черту, драки,
когда я знал, что Октябрь является вожатым звена в пионерском отряде имени Ляпидевского, членом старостата, ударником обороны, награжденным за особые успехи противогазом.
Надо было спасать положение, а вместе с ним и свое доброе имя. Я заговорил об арктическом плавании ледореза «Литке». По загоревшимся глазам Октября я понял, что попал в точку. Оказалось, что он не только знает все детали этого рейса, но и является инициатором переписки отряда с начальником экспедиции Дуплицким.
Октябрь так красочно описывал гигантские айсберги, красоты северного сияния и белых медведей, что могло показаться, будто именно он выводил из ледового плена суда второй Ленской экспедиции.