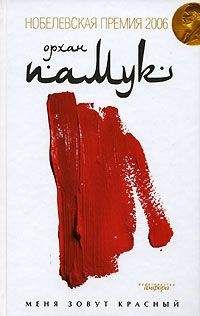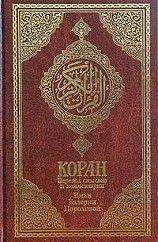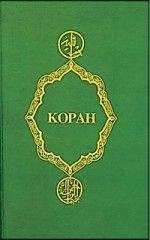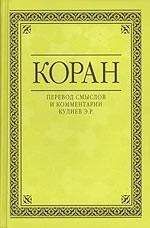Орхан Памук - Имя мне – Красный
Глупец Кара все никак не мог отвести взгляд от рисунка. Молниеносным движением я ухватил его запястье, впившись ногтями в плоть, изо всех сил дернул и выкрутил руку. Кинжал, который он держал не очень крепко, упал на пол. Я поспешил его поднять.
– К тому же теперь вам не удастся спастись, отдав меня на пытки, – усмехнулся я и поднес кинжал к лицу Кара, нацелив острие прямо в глаз. – Давай сюда иглу.
Левой рукой Кара протянул мне иглу, я заткнул ее за пояс и проговорил в его овечьи глаза:
– Мне очень жаль красавицу Шекюре, у которой не осталось иного выбора, кроме как выйти за тебя замуж. Если бы мне не пришлось убить Зарифа-эфенди, чтобы спасти вас от беды, она вышла бы за меня и была бы счастлива. Что до историй о чудесах европейских мастеров, которыми всех нас потчевал ее отец, то я понял их лучше, чем кто бы то ни было, а посему слушайте внимательно, что я скажу вам напоследок. Для нас, художников, желающих жить своим искусством и не поступаться честью, здесь больше нет места. Если мы начнем подражать европейским мастерам, как того хотел покойный Эниште и как угодно султану, то, даже если нас не остановят такие, как Зариф, или сторонники эрзурумца, это сделает благоразумный трус, сидящий в каждом, – в любом случае пойти по этому пути до конца мы не сможем. Если мы послушаемся наущений шайтана, предадим свое прошлое и попытаемся стать неповторимыми на европейский манер, нас неминуемо постигнет неудача – как меня, когда я попытался нарисовать самого себя, не обладая необходимым мастерством и знаниями. Портрет у меня получился скверный, я не смог толком передать сходство – и это в очередной раз открыло мне глаза на то, о чем мы все, по правде сказать, давно знаем, только не признаемся: для того чтобы овладеть мастерством европейских художников, нужны столетия. Если бы книгу Эниште закончили и привезли в Венецию, тамошние художники, а вместе с ними и дож, посмеялись бы над нами, вот и все. Османы не хотят больше быть Османами, подумали бы они и перестали бы нас бояться. Как хорошо было бы, если бы мы не стали сворачивать с пути старых мастеров! Но никто этого не хочет: ни султан, ни Кара, который так печалится, что у него нет портрета его ненаглядной Шекюре. Ну что ж, тогда сидите и век за веком подражайте европейцам. Что вам еще остается! И ставьте под копиями гордые подписи! Старые мастера Герата, желавшие изобразить мир таким, каким его видит Аллах, не ставили подписей, чтобы скрыть свою личность. Вы же будете подписывать свои работы, чтобы скрыть, что личности у вас нет. Но остается еще один выход. Может быть, и в ваши двери уже стучались, только вы это от меня скрываете. Индийский султан Акбар, не жалея золота, собирает при своем дворе самых даровитых художников мира и окружает их любовью и лаской. Уже сейчас понятно, что не здесь, в Стамбуле, а в мастерской Агры мы завершим книгу во славу тысячелетия ислама.
– Любопытно, чтобы стать таким заносчивым, художнику обязательно нужно сначала кого-нибудь убить? – ехидно спросил Лейлек.
– Нет, достаточно быть самым искусным и талантливым, – не задумываясь, ответил я.
Где-то вдалеке дважды прокричал надменный петух. Я сложил свои вещи и деньги в узел, спрятал рисунки в папку. Не зарезать ли всю эту братию кинжалом? Но нет, в ту минуту я чувствовал, что слишком люблю друзей своих детских лет – даже Лейлека, который проткнул мне глаза иглой.
Келебек попытался было встать, но я прикрикнул на него, и он, испугавшись, опустился на место. Это окончательно вселило в меня уверенность, что мне удастся выбраться из текке, я заторопился и только на пороге вспомнил заранее заготовленную пышную фразу:
– Мой уход из Стамбула будет похож на уход Ибн Шакира из захваченного монголами Багдада.
– Тогда тебе надо идти на запад, а не на восток, – усмехнулся завистливый Лейлек.
– Аллаху принадлежит и восток, и запад, – сказал я по-арабски, как покойный Эниште.
– Однако восток – на востоке, а запад – на западе, – буркнул Кара.
– Художнику не пристало быть высокомерным, – промолвил Келебек. – Что ему восток или запад? Он должен рисовать, как велит ему сердце, вот и все.
– Какие справедливые слова! – воскликнул я. – Сердце велит мне поцеловать тебя, мой милый Келебек!
Но едва я сделал два шага в его сторону, как на меня бросился Кара. В левой руке у меня был узел с одеждой и деньгами, под мышкой – папка с рисунками; я замешкался, и Кара успел схватить меня за правую руку, которой я держал кинжал. Но тут не повезло уже ему: он споткнулся о подставку для книг, потерял равновесие и повис на моей руке. Я изо всех сил лягнул его, укусил за пальцы и стряхнул с себя. Он взвыл от ужаса. Я побольнее наступил на укушенную руку и крикнул остальным, пригрозив кинжалом:
– Не вздумайте встать!
Они остались сидеть. Я, словно Кейкавус из легенды, сунул острие кинжала в ноздрю Кара. Когда пошла кровь, из глаз, умоляющих о пощаде, покатились слезы.
– Ну-ка отвечай, ослепну я или нет?
– Говорят, что у одних кровь приливает к глазам, а у других – нет. Если Аллах доволен тем, как ты рисуешь, Он пожелает приблизить тебя к себе и дарует тебе Свою великую темноту. Тогда вместо этого жалкого мира тебе откроются чудесные дали, которые видит Он. Если же Всевышний недоволен твоей работой, ты будешь видеть так же, как теперь.
– Главные свои рисунки я сделаю в Индии. Еще не готова та работа, по которой Аллах будет судить обо мне.
– Не очень-то мечтай, что сможешь убежать от европейских методов. Известно ли тебе, что султан Акбар поощряет художников подписывать свои работы? Португальские иезуиты давным-давно познакомили Индию с европейской манерой. От нее уже нигде не спрятаться.
– Тот, кто хочет остаться чистым, всегда найдет выход.
– Ну да, ослепнуть и уйти в несуществующие страны, – сказал Лейлек.
– Зачем тебе быть чистым? – спросил Кара. – Оставайся здесь, как мы.
– Здесь художники будут всю свою жизнь подражать европейцам, желая обрести свой стиль, – ответил я, – и никогда его не обретут – именно потому, что это будет подражание.
– Но ничего другого не остается, – цинично заключил Кара.
Впрочем, ему-то какое дело до нашего искусства? Его единственная радость – красавица Шекюре. Я вытащил острие из кровоточащего носа Кара и занес кинжал над его головой, словно меч палача.
– Я могу убить тебя, если захочу, – объявил я, хотя это и так было понятно. – Однако могу и помиловать – ради счастья Шекюре и ее детей. Дай слово, что будешь обращаться с ней хорошо, без грубости и высокомерия.
– Даю слово!
– Дарю тебя Шекюре! – сказал я, но рука не послушалась моих слов. Я изо всех сил ударил Кара кинжалом.
В последнее мгновение он дернулся в сторону, да и я успел чуть-чуть изменить направление удара, так что кинжал вонзился не в шею, а в плечо. Я в ужасе смотрел на то, что натворила моя своевольная рука. Когда я выдернул кинжал, рана окрасилась чистым, насыщенным красным цветом. Мне было и страшно, и стыдно, но, с другой стороны, я понимал, что, если в дороге, где-нибудь в арабских морях, я все-таки ослепну, друзья-художники будут уже недосягаемы для моей мести.
Лейлек, имевший все основания полагать, что следующим будет он, рванул с места и спрятался в какой-то из погруженных во мрак комнат. Я пошел за ним с лампой в руке, но испугался и вернулся. Последнее, что я сделал в текке, – расцеловался и простился с Келебеком. Увы, поцеловать его так искренне, как я хотел, не получилось – мешал запах крови. Он увидел, как из моих глаз потекли слезы.
В мертвой тишине, нарушаемой лишь стонами Кара, я вышел из текке и побежал прочь из влажного сада и темного квартала. Корабль, на котором я поплыву в мастерскую султана Акбара, должен был отправиться в путь после утреннего азана, в это время к нему от пристани Кадырга в последний раз отчалит лодка. Я бежал, а слезы все лились у меня из глаз.
Бесшумно, как вор, проходя по Аксараю, я увидел, что горизонт на востоке начинает потихоньку светлеть. Переулки и узкие проходы, где стены едва не смыкались друг с другом, привели меня к источнику, напротив которого стоял каменный дом, где двадцать пять лет назад я провел свою первую ночь в Стамбуле. Меня, тогда одиннадцатилетнего мальчика, радушно встретил дальний родственник, постелил мне постель, и в ту же ночь я обмочился во сне. Заглянув в приоткрытую калитку, я увидел колодец, в который хотел тогда броситься от стыда. По пути к Бейазыту я видел сквозь слезы, как меня приветствуют старые знакомые: лавка часовщика, куда я часто заходил починить какое-нибудь сломавшееся колесико моих часов; лавка стекольщика, где я покупал хрустальные лампы, кружки для шербета и бутылки, которые потом расписывал и тайком продавал богачам; баня, в которую я одно время постоянно ходил, потому что там было дешево и мало народу.