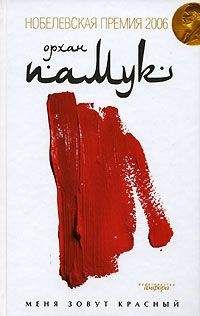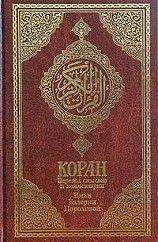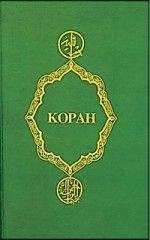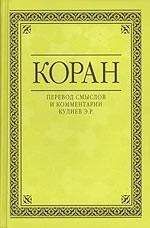Орхан Памук - Имя мне – Красный
Мучимый страхом уподобиться тому слепому, я рассказал историю убийства Эниште сжато и без всякого удовольствия. Говорил я не всю правду, но особо и не лгал – нашел средний путь, который не так надрывал мне сердце, и при этом заметил, что они поняли: я шел к Эниште, не собираясь его убивать. Поняли они и то, что я пытаюсь найти себе оправдание и извинение: ибо сказано, что согрешивший непредумышленно не попадет в ад.
– После того как я отправил Зарифа к ангелам Всевышнего, – задумчиво говорил я, – сказанное покойным никак не шло у меня из головы. Поскольку из-за последнего рисунка я обагрил свои руки кровью, он стал казаться мне особенно важным. Эниште никого из нас уже не приглашал к себе, чтобы работать над книгой, но я должен был увидеть этот рисунок! Ради этого я и пришел к нему в тот вечер. Но он не показал мне рисунок и попытался убедить меня, что тревожиться нет причин. Как будто той таинственной страницы, из-за которой убили человека, вовсе не было! Желая, чтобы он прекратил меня унижать и заговаривать мне зубы, я признался, что убил Зарифа-эфенди и сбросил его тело в колодец. Да, он перестал смотреть на меня с равнодушием, но продолжил унижать. Разве отец будет унижать сына? Великий мастер Осман часто бил нас во гневе, но никогда не унижал. Предав его, братья, мы совершили ошибку.
И я улыбнулся своим братьям, которые внимательно смотрели мне в глаза, словно слушали последние слова умирающего. А я, словно и впрямь умирал, видел, как их силуэты постепенно расплываются и отдаляются от меня.
– Я убил Эниште по двум причинам. Во-первых, за то, что он принудил великого мастера Османа по-обезьяньи подражать европейскому художнику Себастиано. Во-вторых, потому, что я проявил слабость и спросил у Эниште, есть ли у меня свой стиль.
– И что он ответил?
– Ответил, что есть. Но для него, естественно, это было не оскорбление, а похвала. Помню, я в тот миг со стыдом подумал: неужели это и для меня тоже похвала? Я знал, что стиль – это позор и бесчестье, но меня все же грыз червячок сомнения. Я не хотел, чтобы у меня был стиль, но искушал шайтан, и мучило любопытство.
– Каждому втайне хочется, чтобы у него был свой стиль, – рассудил Кара с умным видом. – Каждый мечтает, чтобы нарисовали его портрет – такой же, какой заказал наш султан.
– Неужели с этой болезнью никак нельзя справиться? – спросил я. – Если она по-настоящему распространится, ни один из нас не сможет противостоять методам европейских мастеров.
Но меня никто не слушал: Кара завел историю про несчастного туркменского бея, который поторопился признаться в любви дочери шаха и был за это на двенадцать лет сослан в Китай. Поскольку портрета возлюбленной у него не было, он, живя среди китайских красавиц, постепенно забывал ее лицо, и от этого муки любви превращались, по воле Аллаха, в настоящую пытку. Все мы, впрочем, догадывались, что Кара рассказывает свою собственную историю.
– Благодаря Эниште все мы узнали, что такое портрет, – сказал я. – Надеюсь, однажды настанет день, когда мы научимся без страха говорить о своей собственной жизни от первого лица, а не так, будто рассказываем сказку.
– Любая сказка говорит обо всех, а не о ком-то одном, – заметил Кара.
– А любой рисунок говорит об Аллахе, – закончил я строчку гератского поэта Хатифи. – Однако когда методы европейских мастеров распространятся по-настоящему, каждый будет рассказывать чужие сказки как историю собственной жизни, да еще и гордиться этим.
– Как раз этого и хочет шайтан.
– Пустите же меня, наконец! – закричал я вдруг во все горло. – Дайте взглянуть на мир в последний раз!
Заметив, что мой крик их напугал, я приободрился.
Первым взял себя в руки Кара.
– Ты покажешь нам последний рисунок? – спросил он.
По моему взгляду он понял, что покажу, и отпустил меня. Мое сердце забилось быстрее.
Вы, конечно, давно поняли, кто я такой, хотя я и делаю вид, что пытаюсь это скрыть. Не удивляйтесь: я следую примеру старых мастеров Герата, которые не подписывали своих работ не для того, чтобы никто не узнал их имен, а из уважения к учителям и традиции. Взволнованный, я отправился в путь по темным комнатам с лампой в руке, увлекая за собой свою блеклую тень. На мои глаза уже начал опускаться занавес тьмы – или в комнатах и коридорах текке и в самом деле царил такой мрак? Сколько у меня осталось времени, через сколько дней или недель я ослепну? Мы с моей тенью вошли на кухню, распугав тамошних призраков, достали из чистого угла пыльного шкафа бумаги и быстро вернулись назад. Кара на всякий случай ходил на кухню вместе со мной, но кинжала с собой не брал. Я подумал, не хочется ли мне завладеть кинжалом и ослепить его, прежде чем ослепнуть самому.
– Я рад, что еще раз увижу это, пока не потерял способность видеть, – гордо произнес я. – Мне хочется, чтобы и вы тоже увидели. Смотрите же!
И я показал им при свете лампы последний рисунок, тот самый, на две страницы, который я унес из дома Эниште. Сначала я наблюдал за тем, как они с любопытством и страхом смотрят на него, потом стал смотреть вместе с ними. Меня била дрожь, начался жар – то ли оттого, что мне проткнули глаза, то ли от возбуждения.
Все, что мы нарисовали на этих двух страницах за год работы: дерево, коня, шайтана, Смерть, собаку, женщину, – Эниште, используя, пусть и не очень умело, прием перспективы, расположил так, что заставка и рамка, сделанные покойным Зарифом-эфенди, казались рамой чудесного окна, из которого виден весь мир. Посередине этого мира, там, где должен был располагаться портрет султана, красовался другой портрет – мой собственный. Взглянув на него, я почувствовал гордость. Жаль, конечно, что, как я ни старался, день за днем рисуя и стирая нарисованное, вновь и вновь заглядывая в зеркало, сходства удалось добиться лишь весьма приблизительного. И все же меня переполняло радостное волнение – не только потому, что я был изображен в самом центре мира, но и потому, что по какой-то неведомой причине – без шайтана тут наверняка не обошлось – само существование этого рисунка делало меня более глубоким, сложным и таинственным человеком. Мне хотелось, чтобы мои братья-художники заметили, поняли и разделили мое волнение. Я находился в центре мироздания, словно султан или король, и в то же время был самим собой! От этого я ощущал одновременно и гордость, и стыд. Эти два чувства уравновешивали друг друга, и оттого мне было легко и спокойно – ничто не мешало испытывать головокружительное удовольствие от моего нового положения. Однако для того, чтобы это удовольствие было совершенным, требовалось изобразить все морщинки на лице и складки на одежде, каждую тень, каждый прыщик, каждый волосок в бороде – словом, все наимельчайшие подробности моего облика с предельной достоверностью, которую только могут обеспечить методы европейских художников.
На лицах своих старых друзей я видел страх и изумление, а еще – зависть, вечно грызущую всех художников. Да, я вызывал у них гнев и отвращение, словно самый закоренелый и неисправимый грешник, – но как же они мне завидовали! Боялись и завидовали!
– Ночью, – заговорил я, – рассматривая этот рисунок при свете масляной лампы, я впервые почувствовал, что Аллах оставил меня и лишь дружба с шайтаном спасет меня от одиночества. Если бы я в самом деле пребывал в центре мира (а чем больше я вглядывался в рисунок, тем сильнее мне этого хотелось), то, несмотря на торжество великолепного красного цвета, несмотря даже на то, что меня окружали бы милые сердцу вещи и люди, в том числе прекрасная женщина, похожая на Шекюре, и друзья-дервиши, я чувствовал бы себя еще более одиноким. Я не боюсь быть ни на кого не похожим, не боюсь быть личностью, меня не страшит мысль о том, что другие будут мне поклоняться, – напротив, я хочу этого.
– Так, значит, ты не раскаиваешься? – спросил Лейлек с видом человека, только что побывавшего на пятничной проповеди.
– Я чувствую себя похожим на шайтана, но не потому, что убил двух человек, а потому, что изобразил сам себя на таком рисунке. Мне кажется, я убил тех двоих ради возможности нарисовать этот портрет. Однако мое нынешнее одиночество пугает меня. Художник, подражающий европейским мастерам, не овладев в совершенстве их методами, становится рабом. Я хочу избежать этого. Вы, конечно, поняли, что на самом деле я убил тех двоих, желая, чтобы все в мастерской шло по-прежнему, – и Аллах тоже это понял.
– А получилось, что по твоей милости нам грозят еще бо́льшие беды, – упрекнул меня драгоценный мой Келебек.
Глупец Кара все никак не мог отвести взгляд от рисунка. Молниеносным движением я ухватил его запястье, впившись ногтями в плоть, изо всех сил дернул и выкрутил руку. Кинжал, который он держал не очень крепко, упал на пол. Я поспешил его поднять.
– К тому же теперь вам не удастся спастись, отдав меня на пытки, – усмехнулся я и поднес кинжал к лицу Кара, нацелив острие прямо в глаз. – Давай сюда иглу.