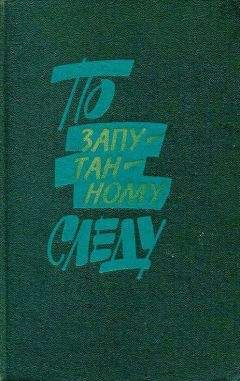Анатолий Безуглов - Конец Хитрова рынка
— Ну, мне не к спеху.
— Зато мне к спеху. Работы много, а руки до всего не доходят. Кстати, тебе привет от Фреймана. Он как раз делал сообщение по Ленинграду.
— Что-нибудь прояснилось?
— Да. Но об этом потом. Сначала с твоим делом разберемся. Распутаешь?
— Постараюсь.
— А уверенности нет?
— Нет.
— По крайней мере, честно.
У Сухорукова был еще более болезненный вид, чем утром. При свете настольной лампы его лицо отливало желтизной и напоминало стеариновую маску.
— Ты случайно не заболел?
— А что, не нравлюсь тебе?
— Не нравишься.
— Да нет, будто бы не заболел, вымотался, — сказал он. — Четвертый десяток. Это мы с тобой в 1918-м молоденькие были — все нипочем. А сейчас тридцать пятый на носу… Вот видишь, пилюли глотаю, — он постучал пальцем по коробочке с каким-то лекарством. — Ты еще до пилюль не дошел?
— Пока нет.
— Так скоро дойдешь, — уверенно пообещал он. — Ну, рассказывай.
Слушал он меня как будто внимательно, но с таким отсутствующим взглядом, что нетрудно было догадаться, как далеки в эту минуту его мысли. Задал несколько уточняющих вопросов, просмотрел акты экспертиз.
— Значит, Эрлиху передал дело?
— Да.
— Разумно. Хватка у него бульдожья и голова светлая. Кстати, хотел узнать твое мнение. Если ему дать отделение, потянет?
— Видимо.
— Ну вот, когда тебя утвердят замом, выдвину его на отделение. Так ему и скажи. Думаю, это его подхлестнет.
— Наверняка.
Сухоруков поднял на меня глаза, усмехнулся:
— Честолюбив?
— Очень.
— Ну, это не беда. Честолюбие для человека — то же, что бензин для машины. Без него далеко не уедешь. А вот ты не честолюбив…
— Соблюдай технику безопасности, — пошутил я. — С бензином ведь сам знаешь как: одна спичка — и пожар…
— Выкрутился, — сказал Сухоруков. — Что же касается Шамрая, то искать, наверное, надо не в его тресте. Маловероятно, чтобы кто-нибудь из служащих треста такую штуку выкинул… Материалы комиссии по чистке партийной организации редакции восстановлены?
— Больше чем наполовину.
— Пусть Эрлих пройдется по всем исключенным и переведенным из членов партии в кандидаты.
— Думаешь, кто-то из них?
— Наиболее вероятно. Месть или что-нибудь похуже…
— А вирши?
— Скорей всего для того, чтобы запутать. А может, вдобавок кто из уголовников руку приложил. В общем, пусть Эрлих займется редакцией.
— Понятно.
— Сейчас, когда поприжали, всякая сволочь недобитая зашевелилась, ужалить норовит перед смертью: кто в пятку, а кто и в сердце метит. Почитаешь кое-какие документы — страшно становится.
С этим нельзя было не согласиться. Получаемые нами документы были заполнены тревожными сообщениями с разных концов страны.
В центральной черноземной области районный ветеринар Васильев привил сап 6000 лошадей. В Сталинградском крае кулаки зверски убили пионера. В одном колхозе действовал «полевой суд», который за нарушение трудовой дисциплины приговаривал колхозников к порке. Членами этого суда были бывшие кулаки, один из них регент церковного хора. Арестованные признались, что их целью было скомпрометировать колхозное строительство.
— А мы все благодушествуем да ушами хлопаем, — продолжал Сухоруков.
— Николаев дал показания?
— Да он, говорят, с первого дня молчаливостью не отличался. Только зайцем петлял. Крутил, вертел…
— Так его же на месте взяли.
— А он сам факт и не отрицал. Тут ему крутить нечего. Он в другом путал. Пытался убедить, что на преступление из личных мотивов пошел. Дескать, протест против несправедливого отношения… В общем, обиделся и пальнул. Он и документы в этом плане заготовил: дневник, заявления… Ну а на поверку все это, понятно, липой оказалось.
— Теракт?
— Чистой воды. По заданию Ленинградского террористического центра. Постаралась оппозиция…
Наступило молчание. Потом, будто отвечая на не высказанную мною мысль, Сухоруков сказал:
— Наша беда в том, что мы уничтожали врагов рабочего класса с большим опозданием. Я историю не по учебнику знаю, на своем горбу ее прочувствовал. И ты не в стороне стоял. Возьми, к примеру, семнадцатый. Мы тогда Краснова и Мамонтова из тюрьмы освободили. Гуманность, скажешь?! За нее мы тысячами жизней расплатились. Так? Так. Дальше. Роман с эсерами закрутили. Речи да встречи, революционное братство. А они тем временем Урицкого и Володарского уложили, на Ленина покушение подготовили, Колчаку дорогу расчистили, а затем и антоновскую авантюру организовали, кулацкие мятежи… Мало тебе? Возьми анархистов. Уж как с ними цацкались! На дружбу с Махно и то пошли. А в результате? В результате взрыв в Леонтьевском переулке. Только тогда сообразили, что анархистскую сволочь пора ликвидировать. Вот и подсчитай, во что нам наша терпимость обошлась. Гуманность — штука сложная.
— Но почему не предположить, что убийство Кирова — трагическая случайность, ни с кем не согласованный акт десятка идиотов?
— Цека эсеров тоже доказывал, что покушение на Урицкого и Ленина им не санкционировано, что это сделано на свой страх и риск несколькими идиотами…
— Но почему все-таки ты исключаешь случайность?
— Ты же читаешь лекции по диалектике. — Сухоруков улыбнулся. — И объясняешь своим слушателям связь между случайностью и необходимостью. Надо быть последовательным. Вот тут есть чему поучиться у оппозиции. В последовательности им не откажешь. Все как положено. От дискуссий — к нелегальщине, от выступлений — к подпольным типографиям, от речей — к террору…
Он достал карманные часы, взглянул на циферблат.
— Однако мы с тобой засиделись…
— А сколько времени?
— Без пяти двенадцать. Надо будет вызвать машину.
Он позвонил дежурному по отделу, запер ящики письменного стола, встал, потянулся. Фигура у него, как и в былые годы, оставалась стройной, подтянутой. Сухоруков не потолстел, не потерял выправки. Постарело только лицо. Рябь морщин на лбу, залысины, седина в аккуратно зачесанных назад волосах.
— Так-то, Саша, про логику борьбы забывать нельзя, — сказал он.
Когда мы вышли из управления, у ворот уже стоял автомобиль. Легкий морозец приятно холодил разгоряченное лицо. Настоянный на морозе воздух был густой и чистый. Когда-то, в 1919 году мы с Виктором Сухоруковым в такую вот ночь вдвоем возвращались со свидания с девушкой, которая ждала третьего… Как давно это было!
— Садись, — сказал Сухоруков, открывая дверцу машины.
— Я, пожалуй, пройдусь пешком.
— Решил заняться здоровьем?
— Сам говорил, что пора.
— А меня возьмешь?
— Придется. Начальство все-таки.
Сухоруков отпустил шофера, глубоко вдохнул морозный воздух, полез было в карман за папиросами, но раздумал. Мы шли неторопливо. Жилые дома уже спали, а в учреждениях кое-где окна еще светились.
Мы дошли вместе до Мясницких ворот, там попрощались. Пожимая мне руку, Виктор, глядя в сторону, спросил:
— С Ритой ты больше не живешь?
— Нет, разошлись.
— Давно?
— С месяц.
— Не долго вы прожили…
— Как получилось.
— Послушай, Саша, пошли ко мне. Чайку попьем, а?
— Поздно уже, да и отоспаться хочу…
— Тогда на этих днях загляни. Посидим, старое вспомним… Маша о тебе как раз спрашивала вчера… Зайдешь?
— Спасибо.
Он еще раз пожал мне руку и свернул на бульвар.
V
В Мыльниковом переулке я родился. За прошедшее время в нашем доме сменилось много жильцов. Вскоре после революции в нашу квартиру вселили врача Тушнова с супругой, а когда они переехали — мрачного художника с веселой фамилией Разносмехов и очкастого толстяка, которого не могли вывести из состояния задумчивости ни жена, ни теща, ни трое резвых детей. Он отличался молчаливостью. Услышать его можно было только по утрам, когда, находясь в местах общего пользования, он угрюмым баском напевал одну и ту же песенку: «В нашем городе жила парочка, он был парень рабочий, простой, а она была пролетарочка, всех пленяла своей красотой». Затем в этой комнате около года жили два разбитных рабфаковца: Михаил и Рафаил. Их сменила семья рабочего Филимонова, а Разносмехов однажды привел в квартиру миловидную стриженную «под фокстрот» женщину. Она молчала, внимательно разглядывала принадлежащее Филимоновым последнее достижение техники — двухфитильную керосинку фабрики «Металлолампа», а художник сказал: «Вот. Моя жена, Светлана Николаевна. — И, чтобы ни у кого не осталось никаких неясностей, уточнил: — У нее еще есть сын от первого брака, Сережа. Так он тоже переедет». И Сережа переехал…
Таким образом, уже к тридцатому году плотность заселения квартиры была доведена до существующей санитарной нормы: три и восемь десятых квадратного метра на человека. Каждый новый жилец вместе с вещами вносил в квартиру свою индивидуальность. Тушновы увлекались мышеловками и разными старыми вещами. И поныне чулан был завален сконструированными доктором хитроумными приспособлениями для уничтожения мышей, а над дверью кухни висела голова горного барана, которого Михаил и Рафаил прозвали Керзоном.