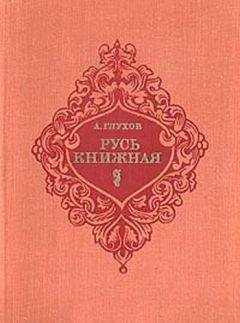Андрей Глухов - Игра в судьбу
Четыре месяца по несколько раз в день он слышал этот скорбный крик. Женщина не предлагала, она просила, молила, чтобы кто-нибудь взял у неё горячую картошку в обмен на красивую бумажку, которую она обменяет в магазине на то, что нельзя вырастить в огороде. Пустой желудок сжимался в комок и Валёк люто ненавидел эту визгливую бабу. Сейчас Глебу захотелось выйти, купить и осчастливить женщину красивой бумажкой, а потом отдать желудку то, что он вожделел все эти четыре месяца. Он вышел в тамбур. Торговка прошла и стояла у соседнего вагона. Глеб уже поднял ногу, чтобы выйти на перрон, но налетел Валёк, схватил, потащил и бросил на полку в загоне. Тень Глеба сидела, мелко дрожа и судорожно стирая с лица липкий пот. Он разделся, сложил все вещи в ящик под полкой, приготовил постель, застелив её серым, чуть влажным бельём, и лёг. Впервые за четыре месяца его голова лежала на подушке, а тело было укрыто одеялом. В тишине стоящего вагона он слышал, как мать укладывает спать ребёнка.
— Сказьку, сказьку, — канючил малыш.
— Тебе какую, про репку или про колобка? — устало спросила женщина.
— Хочу про каябка.
Она начала рассказывать. Валька закрыл глаза, представив, что это мама рассказывает ему на ночь сказку. Он всхлипнул и затих.
«Я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл, а от тебя, Серый Волк, и подавно уйду». Валька горько усмехнулся и через мгновение забылся тяжёлым тревожным сном.
Он был кочегаром при какой-то ненасытно-прожорливой топке и беспрерывно бросал в неё уголь лопату за лопатой, лопату за лопатой… Большой кусок блестящего антрацита то ли играя, то ли издеваясь, запрыгивал в каждую лопату. Валька сбрасывал его, откидывал подальше, но он вновь и вновь оказывался на месте. И забросить бы его в топку, но что-то удерживало Вальку, что-то внутри мешало сделать это, предрекая большую беду. Уголь закончился, оставался только этот странный кусок, но топка требовала новой пищи, и Валька против желания швырнул его в жадную ненасытную пасть. И только когда чёрный кусок оторвался от лопаты и полетел, кувыркаясь, в раскалённую топку, когда ни остановить его полёт, ни вернуть было уже невозможно, Валька разглядел узкое длинное лезвие, кроваво сверкавшее в красных языках пламени, и понял, что не уголь он швырнул в топку, а забросил туда пластилинового Седого, и что сейчас произойдёт нечто страшное и неотвратимое. Ужас накрыл Вальку, и он завизжал истерично, по-девчачьи, а пластилин стал плавиться, пузырясь и извиваясь. Вот уже образовалось осьминожье щупальце, вот оно выстрелило из топки и присосалось к его плечу, потащило, повлекло в её жаркую пасть. Валька выл на одной визгливой ноте, пытался оторвать его от себя, но присоски мёртво вцепились в плечо и не отпускали. «Проснись, проснись!» — властно требовал чей-то голос, и Валентин с трудом разлепил веки. Человек в форме тряс его плечо. Жалобно заскулил и забился Валёк, сразу опознавший в человеке милиционера.
— Пассажир, мужчина, проснитесь, — требовал человек женским голосом.
— Что? Что? Кто? — бессмысленно выкрикивал Валентин.
— Мужчина, проснитесь. Вы так кричите, что перебудили весь вагон. Или приснилось что?
Только теперь Валентин осознал, что это проводница.
— Приснилось, — прошептал он, обтёр потное лицо простынёй и откинул одеяло, охлаждая взмокшее тело.
Проводница с интересом оглядела его и скороговоркой произнесла:
— Слушай, заполошный, сейчас остановка будет на три минуты, а потом пустой перегон на два часа, — она на секунду запнулась, как бы взвешивая окончательное решение, и закончила: — так ты заходи ко мне — чайком угощу, не то опять заснёшь и обкричишься.
Валентин надел брюки и долго плескался в туалете у неудобного крана, смывая липкий как клейстер пот.
Он сидел у своего слепого заиндевелого окна и пытался собрать воедино разбегающиеся мысли. Вспомнилась мама, картинно разводящая руки и трагически восклицающая: «Как ты собираешься дальше жить и на что ты надеешься?!» Вспомнился Равиль со своим: «В Москву надо двигать, Валька, в Москву. Там жизнь, там бабки, всё там». Вспомнилось и многое другое, о чём вспоминать не хотелось.
— Ну что, пойдём? — раздался знакомый голос проводницы.
Валентин повернулся и увидел незнакомую женщину в застиранном ситцевом халатике.
— Да я это, я, не тушуйся, — хохотнула она, — пойдём, чаи погоняем.
Он пошёл за ней в узкое служебное купе, где справа были две полки, а слева какие-то пульты, мойка и что-то ещё. Нижняя полка была заставлена стопкой невостребованных байковых одеял и какими-то грязно-серыми тюками, но у самого столика Валентин увидел расчищенное место.
— Садись, заполошный, — указала проводница на свободное место и налила в стакан чай, — тебя звать-то как?
— Валентин, — ответил он и испугался, — то есть, нет, Глеб.
— Это какой же сон должен был присниться, чтобы пассажир имя своё забыл? — подозрительно спросила проводница и отступила к открытой двери.
— Да не боись, всё просто, — нашёлся Валентин, — родители меня Глебом нарекли, да только пошёл я поздно, падал всё, так старший брательник меня вальком назвал, Валькой, значит. Так и повелось: для своих, для родни, я Валька, а для прочих — Глеб. Сейчас, вот, от родни еду — ну и путаюсь.
— Понятно, — успокоилась проводница, — и у нас такое было. Старушка померла года три назад. И орденоноска, и депутаткой была, и начальницей какой-то. И всё звалась Наталией Демьяновной. А через год согнали нас, от смены свободных, памятник ейный открывать, глядь, а на нём «Анастасия Демиановна» выбито. Бывает, — подытожила она, — В командировку, или, паче чаяния, домой?
— Домой, — сам того не понимая, он попытался вжиться в роль Глеба.
— А не больно ты на москвича похож, валкий Глеб, — подковырнула проводница.
— Чем же?
— Да говор у тебя не московский. Снимаешь, небось?
— Нет, своя. Бабка наследовала.
— Повезло тебе. А в наши края чего мотался?
Вальке вдруг нестерпимо захотелось поделиться хотя бы частицей правды:
— Брательника хоронил, того самого.
— Ах, беда какая! — притворно ахнула проводница, — болел или как?
— В избе сгорел по пьяни, — Валёк тяжело вздохнул и перекрестился.
— Да, беда. Все вы, мужики, такие. Сам-то пьёшь? — Глеб отрицательно мотнул головой, — Молодец, уважаю таких, — задумчиво произнесла проводница и уселась на стопку одеял, — ты, Глебушка, чай-то ещё наливай и вафлю бери, не стесняйся, да и мне посунь одну.
Она грызла вафлю и рассказывала про мужа — пьянчугу, замёрзшего четыре года назад, возвращаясь со дня рождения свояка. Халатик на ногах распахнулся, и Глебу открылась тёмная волосатая промежность, и ещё открылось ему, что там, под халатиком сидит не проводница, а женщина, откровенно соблазняющая его. Он отвёл взгляд, но через секунду снова отвёл его, отвёл и через следующую и так продолжалось до тех пор, пока женщина не спросила, хихикнув:
— Что, Глебушка, али захотелось чего? Ну, пойди, замкни дверь.
Он закрыл и запер дверь, повернулся в узком проходе и увидел женщину в расстёгнутом халате, сидящую на стопке одеял и широко раздвинувшую ноги.
— Залететь не боишься? — спросил он, спуская джинсы.
— Рада бы, да Господь наказал за что-то, — томно откликнулась она.
Женщина не была ни соблазнительной, ни желанной и он вяло качался вместе с качанием вагона. Внезапная мысль обожгла его и вызвала приступ ярости: «Ещё вчера она не подпустила бы меня к подножке вагона, а сегодня легла под меня… А ведь и вчера и сегодня это Я, Я, Я!» Это «Я, Я, Я» он прокричал в голос и женщина, по-своему истолковав его ярость, теснее прижалась и зашептала:
— Ты, ты, конечно ты!
Их плоти содрогнулись одновременно, но Глеб не испытал ни радости, ни наслаждения, и только чувство какого-то опустошения наполнило его. Он сделал шаг назад и упёрся спиной в пульт управления. Женщина так и осталась сидеть на стопке одеял с закрытыми глазами и широко раздвинутыми некрасивыми, изрезанными вздутыми венами ногами и Глебу показалось, что она вслушивается в себя, пытаясь уловить миг вожделенного зачатия. Ему стало стыдно за своё подглядывание, но женщина выручила его, произнеся, не открывая глаз и не разжимая губ: «Уходи».
Он пробрался на своё место и уснул спокойным безмятежным сном.
Пробудился он поздно, когда пришла проводница, не та, другая, должно быть, сменщица, и мрачно пробубнила:
— Поднимайтесь, пассажир, сдавайте бельё. Через полчаса туалеты закрываю.
До прибытия оставалось минут сорок, и Глеб снова внимательно изучил свой паспорт. Глеб Серафимович Марков родился в Москве 17 марта 1962 года, был холост, бездетен и проживал на Криворожской улице. Название улицы выдавило из Глеба кривую ухмылку. Он убрал паспорт, достал бумажник, снова пересчитал деньги, которых всё ещё оставалось много, и принялся изучать маленькую карточку со странным названием «Единый проездной билет». Назначение её было понятно, но использование оставалось загадкой.