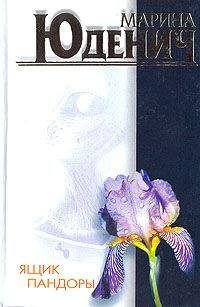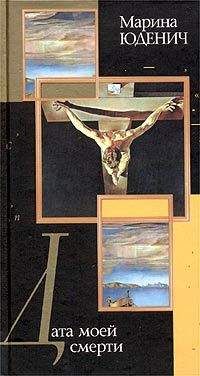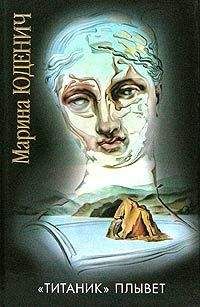Марина Юденич - Игры марионеток
При этом, он продолжал разговаривать с кем-то из свиты, просочившейся в кабинет.
Из комнаты отдыха вышел тот самый Н., который баллотировался в Дубне, толстый, с младенческим румянцем на плохо выбритых щеках.
Г. не выпускал моих рук.
Мы так и стояли посреди его огромного кабинета.
Царедворцы толпились у двери.
Н. вкрадчиво переступал ножками по ковру, лучезарно, как лучшей подруге, улыбался мне.
Мне было весело и чуть-чуть неловко.
Последнее, впрочем, гораздо в меньшей степени, чем следовало бы.
Н., весь мед и сахар, сказал мне: «Здрас-с-сьте!»
Я сказала ему: «Ни пуха, ни пера!»
«Да-да…» — отозвался Н. весьма рассеянно.
А прохладные пальцы Г. все скользили по моим ладоням.
Тут выяснилось, что одной рукой я сжимаю дурацкую шариковую ручку — как рисовала какие-то схемы, убеждая К., так и вцепилась в нее мертвой хваткой.
Он отнял у меня ручку, повертел ее в пальцах.
Будь она проклята, эта ручка!
Словом, отвлекся, наконец, от меня.
Дальше — сумбурно.
Он прошел в комнату отдыха, стал одеваться. Натянул плащ, нахлобучил, не взглянув в зеркало, дурацкую шляпу. И сразу стал похож на командировочного из провинции.
Я неуклюже потопталась посреди кабинета.
Потом сделала ему ручкой и сказала: «Ну, я пошла!»
Получилось фальшиво.
«Куда?» — искренне удивился он. Словно это было в порядке вещей: он уезжает — а я остаюсь в его кабинете.
Я как-то совсем уж жалко забормотала про его фонд, которому, может быть, смогу быть полезна, если, конечно, он позволит….
Он что-то ответил.
Только вот — что именно?
Не помню, хоть убей.
Как всегда, из головы вылетает самое важное.
Он уехал.
Свита проводила меня почтительно.
Подумать только!
Долго шла пешком по Калининскому проспекту.
Последний аккорд дня.
Забрела в «Москвичку» и разорилась на большущий флакон любимых «Сальвадор Дали».
Дочитав эту запись, она закрыла блокнот, но тут же, наугад открыла его на другой странице.
«28 марта 1991 года
В фонде — скукочища.
Так разбиваются мечты — написала бы по этому поводу какая— ни— будь бойкая романистка.
Впрочем, романов я теперь не читаю, зато читаю бездну всякой тягомотины: безумные проекты по переустройству России и тому подобный шизофренический бред.
Зачем он содержит всю эту полоумную братию?
Бесполых мальчиков, невостребованных девочек.
Все, впрочем, «умны, как на подбор». А вернее — заумны. И патологически неряшливы.
Хочется вслух читать «Мойдодыра».
Других слов нет.
Зато есть постоянная работа, и, значит, средства к существованию.
Все оживает только тогда, когда появляется он.
А он появляется редко.
Звонит Л., как всегда, в панике: «Едет, встречайте…»
«Непромытые» выстраиваются на парадной мраморной лестнице. (Фонд роскошествует в богатом особняке прошлого века, неплохо сохранившимся и поныне. Несмотря ни на что.)
И все равно, он появляется неожиданно.
И стремительно.
Охранник с рацией — единственный атрибут принадлежности к Олимпу — едва поспевает следом.
«Неумытые», толпой, бросаются навстречу.
Я замираю возле колонны.
Сердце колотится в совершенном вакууме, ноги словно чужие — так бывает со мной, когда перепугаюсь смертельно.
Он, как всегда, идет мимо, и словно не замечает.
Впрочем, почему — словно?
А если он, правда, не замечает меня?
Иногда мне кажется, что он вообще ничего не замечает вокруг себя. Ни людей, ни предметы…
А если заметит, вдруг кого-то, от того только, что наткнется случайно, очень удивляется, и долго, с любопытством изучает. Разглядывает, расспрашивает, трогает руками.
Он вроде бы живет в ином времени и в других пространственных измерениях, и потому многие его не понимают, а многие — ненавидят.
Но все, без исключения — боятся.
А может, я просто придумала его таким?
Сама придумала, и сама же тихо погибаю, медленно, как в трясину, погружаясь в безнадежную и безответную любовь?
Вот он дошел до середины вестибюля и набрел на меня.
Холодное рукопожатие, прохладный поцелуй в щечку.
— Куда пропала?
— Никуда, я здесь (Рядом, только вы не хотите заметить — это, естественно, про себя)
— Как живешь без меня?
— Без вас — плохо. (Видит Бог, это святая правда!)
Что-то еще — на ходу, в том же духе.
И вдруг:
— Ты что, киснешь здесь? Ну, скажи, киснешь?
— Кисну.
— Почему молчишь?
— У вас других проблем нет, да?
— Кроме тебя? Какие могут быт проблемы?! Может, ты в аппарат хочешь? Ну, отвечай, пойдешь ко мне в аппарат?
Боже, праведный!
Хочу ли я в аппарат?!!!
Это значит, каждый день — рядом.
Это значит — настоящая работа.
Только я не верю, что это возможно.
Дневник теперь раскрыт почти на середине.
«11 ноября 1991 года
Просыпаться в чужом гостиничном номере — пытка, ниспосланная Всевышним всем блудницам, разменивающим на ворованное гостиничное счастье чистое золото своей любви
Я придумала эту фразу сходу — еще не проснувшись, как следует, но уже испугавшись шагов в коридоре и звяканья ключей.
Ощутив щекой тепло его плеча, и вдохнув полной грудью его дыхание. Отнюдь, не легкое дыхание эльфа. Вчерашний ресторанный ужин, и выпитое после шампанское, и выкуренные сигареты — все было в том дыхании. Но я вдохнула его жадно и радостно
Красивая придумалась фраза.
И точная.
Наказание утреннее гостиничное, тем временем, только начинается.
Продолжение будет таким.
Через несколько минут он проснется, и спросонок сладко потянется ко мне.
Но потом проснется окончательно, увидит электронное табло часиков на тумбочке, и тогда, торопливо чмокнув в меня щеку, пробормочет что-нибудь дежурное.
И сразу же — рывком — в ванную.
Оттуда выйдет уже совсем другой человек. Гладко выбритый, пахнущий дорогим одеколоном, улыбающийся и увлеченный собственным галстуком.
Мы расстанемся в холле.
Нет, он не из тех, кто стыдливо прячет глаза и старается идти на полшага впереди или сзади.
Он, конечно же, предложит подбросить меня, куда надо. Но при этом, едва заметно скользнет глазами по часам на запястье.
И я откажусь.
На улице он задержит мою руку — в своей, чуть дольше, чем следовало бы.
По крайней мере, в публичном месте.
И стремительно скроется в недрах своей блестящей черной «Волги», со значком Верховного Совета на лобовом стекле и антенной правительственной связи на крыше.
На этом утреннее наказание закончится
Она пролистала еще несколько страниц.
«15 марта 1992
Безумное время.
Дикое напряжение, работа на износ, до полного отупения и абсолютного физического
изнеможения.
Взлеты и падения, радостный сердечный трепет и горестное опустошение души.
Работа шла неровно и нервно, нас постоянно дергали, и Главный документ складывался из каких-то сумбурных обрывков.
Все почему-то приходилось доделывать и переделывать в последнюю минуту, и сразу бежать показывать Г. и иже с ним.
Чаще всего снами теперь общается В.
Он, как мне кажется, на самом деле, не так страшен, как его малюют.
По крайней мере, выслушивает всегда до конца, причем — даже те аргументы, которые ему не по нраву.
Правда, смотрит с ленинским прищуром.
Дескать, пой ласточка, пой. Все про тебя мне давно известно.