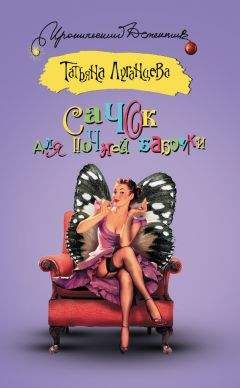Кейт Эллисон - Секрет бабочки
Флинт уводит меня все дальше по пустынной улице. Несколько домов, еще остающихся на ней, с разбитыми окнами и выглядят так, словно краска на них в какой-то момент подверглась сильному нагреву.
Гдетотам напоминает расползшийся лабиринт, где одно уже не связано с другим и между ними не осталось ничего общего. Его словно строили люди, которые где-то на полпути потеряли интерес к своему детищу: церковь без шпиля, ржавая купальня для птиц, превращенная в местный почтовый ящик, где оставляются и забираются записки, автостоянка, заставленная раковинами, и унитазами, и чугунными ваннами с потрескавшейся эмалью, известная как «Ванный дом». Флинт объясняет, что в Гдетотаме здесь обычно встречаются с друзьями, чтобы потом пойти куда-то еще.
Половина встреченных нами людей — другие бродяги. Они сидят на корточках посреди тротуара и раздаются в стороны, словно красное море, чтобы дать нам пройти. Будто Флинт — Моисей. Некоторые вскидывают кулаки, когда мы проходим, в знак солидарности. Другие свистят вслед, что вызывает смех сначала у него, а потом у меня.
Мы огибаем угол и направляемся к переулку, перегороженному тяжелым занавесом. Я сую правую руку в карман: тук тук тук, ку-ку. Ку-ку — это такая новая игра, шепнуть так, чтобы никто не услышал, даже я сама.
А потом я ахаю. За занавесом — Нарния. Словно он отгораживает еще один тайный мир. Немалую часть этого мира занимает большое открытое пространство, где кто-то возвел каменные стены, ничего не огораживающие, и лестницы, ведущие в никуда. Все это ярко разрисовано абстрактными фресками, подсвечено мигающими лампочками, украшено кусочками материи. И везде люди, в длинных юбках и черных, с заплатами, куртках, со штангами и болтами для пирсинга в ушах, и носах, и губах, и языках; некоторые с дредами, как у Флинта, другие обритые наголо или с разноцветными волосами.
Какие-то люди, усевшиеся кружком, барабанят руками по крышкам мусорных баков, или кастрюлям, или сковородам. Другие играют на гитарах и каких-то тренькающих, а то и грохочущих самодельных инструментах. Некоторые поют, а может, стонут, я не могу определить. Зрелище это удивительное и ужасающее, и я ничего не могу с собой поделать, тоже начинаю приплясывать, ловя ритм. Забываю про холод. Забываю вещи, которые мне нравится переставлять в комнате, забываю, что мама всегда спит, а папа всегда работает.
Становлюсь частью этого мира.
Высокий худой мужчина со снежинками на черных подтяжках поднимается с земли и подходит ко мне и Флинту, держа в руках два набора китайских колокольчиков.
— Вас не затруднит найти по палочке и присоединиться к нам? У нас некому сыграть на колокольчиках. Мы сочиняем что-то серьезное, но одновременно и праздничное, понимаете? — Он кивает нам и возвращается к сидящим кружком людям.
Я уже собираюсь покачать головой — нет, премного благодарна, — но тут Флинт говорит: «Нет проблем», — хватает меня за руку и тащит обратно к занавесу, к входу в Нарнию. Мы находим две ветки, длинные, крепкие, с корой, жесткие от мороза. Флинт поднимает свою, щурится.
— К бою! — кричит он. — Шашки наголо!
Мы сражаемся с минуту, прежде чем я выбиваю ветку из его рук, и, признав свое поражение, делая вид, что плачет, он подхватывает свою ветку, и мы бежим к сидящим на земле оркестрантам. Вливаемся в круг.
«Я никогда не встречала такого, как Флинт».
Ритм захватывает меня. Первые три мелодии я не поднимаю глаз: три — хорошее число. Не столь хорошее, как девять, но все равно очень хорошее. К тому времени двое парней начинают спорить, кому играть на самом большом мусорном баке, кто-то еще разбивает бутылку из-под пива «Уайлд дог», а парень, который играл на мусорном баке среднего размера, свалился на него: то ли заснул, то ли отключился. Остальные участники оркестра расходятся.
Флинт касается веткой моего плеча. Я касаюсь пальцем другого плеча, чтобы не нарушать симметрии. Он смеется. Я краснею.
— Здорово у тебя получается с китайскими колокольчиками, детка, — говорит он и добавляет: — Не будешь возражать, если я прогуляюсь к тому мусорному баку, — Флинт указывает на огромную, темно-синюю пластмассовую ванну — как я понимаю, приспособленную под мусорный бак, — и посмотрю, чем там сегодня можно поживиться? Я в поиске новых идей.
Я киваю. Вижу три листочка, одновременно падающих с белого клена позади Флинта, и точно знаю, что он все делает правильно.
Флинт одаривает меня широкой зубастой улыбкой и рысцой бежит к мусорному баку. Мне тут на удивление уютно, среди таких же, как я, — странных и забытых, невидимых и игнорируемых. В школе я — девушка, которая ест простые сэндвичи с виноградным желе, завернутые в алюминиевую фольгу, то ли на лужайке, то ли в библиотеке, если на улице холодно. Я — девушка, которая не может войти или выйти из автобуса, школы, классной комнаты без тук тук тук и ку-ку, девушка, которая не поднимет руку, даже если знает ответ, потому что, если вдруг поднимет, ей надо прижать руку к столу, а потом поднять снова. И еще раз. Трижды, а может, шесть раз, а может — девять, в зависимости от множества факторов, которые нет никакой возможности контролировать: сколько слов в вопросе, сколько раз ученица, сидящая впереди, почесала макушку. Я — девушка, которая не может принимать душ после занятия в физкультурном зале, потому что должна встать под воду как минимум трижды, прежде чем выйти в раздевалку, а к этому времени школу уже закроют.
В Гдетотаме, с Флинтом, я первоклассный мастер баночного боулинга и полноправный член оркестра. А еще я — раньше даже представить себе не могла, что от этого слова меня будет обдавать жаром, — хорошенькая.
Два парня в нескольких ярдах от меня начинают то ли декламировать нараспев, то ли петь. Они голые по пояс, несмотря на холод, и втирают в грудь красную краску, и смеются, вроде бы пребывают в экстазе, невероятно счастливые, и я хочу быть ближе к ним. Поэтому поднимаюсь. Может, я им подпою. Может, вскину руки к небу и буду кружиться, и петь, и выть.
Но по пути к ним мое внимание привлекает разговор трех девушек моего возраста. Они сбились в кучку, выглядят нервными и усталыми.
Блондинка с густо накрашенными пурпуром веками и в длинном черном пальто говорит:
— Но я не говорила с родителями шесть месяцев. Они подумают, что я вру. Они так всегда думали. — Она смотрит на подруг, какое-то время молчит, сильно прикусывает губу, прежде чем продолжить: — Наверное, я могу позвонить тете. Она, возможно, одолжит мне денег. Я с вами поделюсь. И мы просто уйдет. Этим вечером, вместе. Если она как-то вышлет мне деньги.
— Да, уйдем, — кивает девушка с перышками цвета морской волны, воткнутыми в черные волосы, — но куда? Куда мы можем уйти?
— У меня есть подруга в Филли, — блондинка говорит медленно, словно строит планы на ходу. — Я уверена, что она живет на прежнем месте. Она разрешит нам поселиться в ее подвале. Я просто хочу вырваться отсюда, понимаете?
Третья девушка, в черных армейских ботинках вносит свою лепту:
— У меня есть пятьдесят баксов. Этого, наверное, хватит на всех, так? На автобусные билеты? — Ее левый каблук нервно постукивает по земле.
Я перестаю дышать, просто жду — жду, чтобы они сказали почему. Почему у них вдруг возникла отчаянная потребность покинуть Гдетотам? Я вновь думаю о Сапфир, крови на стенах. Может, они ее знали?
Первая девушка, блондинка, открывает рот, чтобы заговорить вновь, но тут Черные Ботинки замечает меня и локтем резко толкает блондинку в бок. Что-то шепчет остальным, и они отходят подальше.
Я продолжаю путь, подпрыгивая и размахивая руками, согреваясь, делая вид, что и не стояла, подслушивая. Подходя к танцующим парням, вижу, что они втирают в грудь не краску.
Это кровь.
Они порезали себя, грудь и руки, осколками разбитой винной бутылки. На земле вокруг них валяется множество пустых винных бутылок. Один из них смотрит прямо на меня и улыбается. Оскал волчий, одни зубы.
— Эй ты, — он нацеливает на меня окровавленный палец. — Что-то давно я тебя не видел, ты вроде бы здесь больше не тусуешься. И что это все значит? — Его веки дрожат. Он тянется ко мне, словно хочет схватить. Я ахаю и поворачиваюсь к нему спиной, потом поворачиваюсь лицом, снова спиной, снова лицом, и еще, и еще, и еще. «Нельзя останавливаться», — говорит мой разум. — «Нельзя», — говорит мой разум. «Пока нельзя», — говорит мой разум. «Еще шесть, и будет двадцать семь. Еще три. Хорошо. Теперь можно идти. Хорошо. Можно идти. Имеешь право».
Мне надо найти Флинта.
«Ку-ку ку-ку ку-ку». Не знаю, произношу я это слово мысленно или вслух. Оно отскакивает то от одной стороны черепа, то от другой. Я чувствую, каждый слог, каждую букву, каждый дефис. Я торопливо иду по переулку. Внезапно все другое, гротескное. Не Нарния. Ад. Вуаль поднята, и теперь видно все, что она скрывала. Вонь. Гниль. Все больные или на грани болезни — их трясет, они стонут, закатывают глаза к небу. Не знаю, как я могла подумать, что они счастливы. Может, Флинт каким-то способом заморочил мне голову, чтобы я видела то, чего нет.
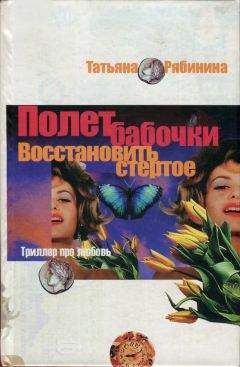
![Андрэ Нортон - Железные бабочки [ Железные бабочки. Удача Рэйлстоунов]](/uploads/posts/books/79674/79674.jpg)