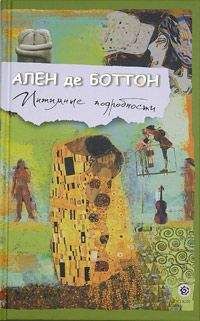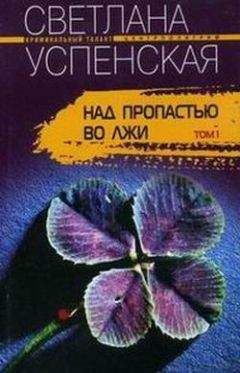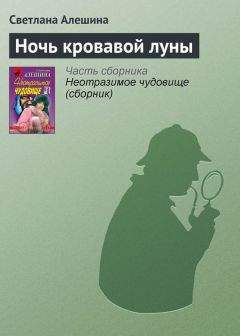Светлана Успенская - Большая Сплетня
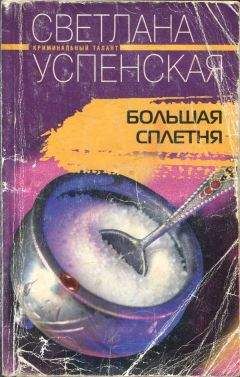
Обзор книги Светлана Успенская - Большая Сплетня
Светлана Успенская
Большая Сплетня
ОН
Как пришла мне в голову эта идея?
Сразу признаюсь, не я это придумал. Мне такого в жизни не изобрести!
Вообще–то я никогда не торчал в курилках, не блестел вожделенно глазами, вслушиваясь в интимные подробности жизни общих знакомых, а особенно незнакомых — всегда презирал такое времяпрепровождение, считая себя выше этого. Однако, как выяснилось, зря! Зря презирал и зря считал, потому что, оказывается, этот путь прямиком ведет к успеху. Оказывается, торная дорога наверх пролегает не через совещания в директорском кабинете, не через достижения в работе с клиентами, не через производственные успехи и прочую мутотень, а через курилки, разговоры вполголоса, интимные подробности, недомолвки и умолчания… Знаете, иногда и банальная совковая лопата оказывается действенным оружием в сравнении с автоматами, гранатометами и установками залпового огня. Если, конечно, пользоваться этой лопатой с умом!
Но понятное дело, не обладая вышеперечисленными огнестрельными устройствами, я принужден был действовать исподтишка и издалека, умелым маневром обходя бастионы, фортификационные рвы и капониры, кои воздвигла на моем пути неуслужливая судьба. И в один прекрасный день я начал свое тайное наступление…
Но сначала стоит рассказать, как родилась эта идея.
В принципе она пришла в голову не мне, а моей приятельнице Лиде Лилеевой. Мы лежали на диване, за стенкой кашляла бабушка Лиды. Старая карга превосходно разбиралась в фазах той любовной игры, коей по молодости лет, верно, была привержена не меньше нашего, но теперь, обезоруженная старостью, неподвижностью и переломом шейки бедра, кашляла залпами — странный и не слишком приятный аккомпанемент к той любовной прелюдии, которую в симфонии затянувшегося одиночества вынужденно играли наши тела.
Откинувшись на подушку, я закурил, а Лида, все еще учащенно дыша, отвела со вспотевшего лба жидкую челку. Настало время тихих разговоров вполголоса. Выдержав приличествующую случаю паузу, моя подружка напряженно прошептала:
— Слушай, так ты говорил с ним?
Я промолчал, выдыхая сиреневые завитки в комнатный полумрак, сгущенный желтыми занавесками до желеобразного состояния.
Без слов мотнул головой. Вынужденно усмехнулся, комкая окурок в пепельнице, будто давя внезапный прилив ненависти. Интересно, что после соединения с нелюбимой женщиной мужчину вместо благодарности переполняет отвращение и тихое умиротворенное (обратите внимание, экзотический оксюморон!) раздражение, приступ патологической брезгливости, причина которой — несколько пароксизмальных содроганий в известной области. Мизерная причина, вызывающая большие последствия…
— Тебе–то что?
Лида нахмурилась, посмурнела.
— Я только хотела… — проговорила извиняющимся тоном. Слегка отодвинулась. Натянула на грудь скомканное одеяло. Обиженно затрепетала коротенькими, точно обожженными ресницами.
— Нет, — оборвал я поток ненужных оправданий. — Даже не хочу с ним об этом говорить!
Молчаливый вопрос, излучаемый высокоэнергетическим напряжением глаз.
— Не хочу и не буду! И потом, как к нему подойти? Предложить сигаретку? Проводить домой, как кисейную барышню? На корпоративной вечеринке вовремя поднести бокал? А потом битый час выслушивать тупоумные изречения, аплодируя их исключительной банальности! Клянчить должность, умильно глядя глазами побитой собаки! Лизать руку шершавым языком, пряча зубы! Не хочу!
Лида пожала плечами, потупилась, притихла. После любовных развлечений (достаточно редких, кстати, вследствие своей абсолютной вынужденности) ее щеки обычно розовели, но губы из–за стершейся помады отливали сизым мясным оттенком. Она внезапно начинала напоминать свой собственный негатив. Лида некрасива, бедняжка, но, впрочем, достаточно умна, что слегка скрашивает ее безобразие. Хотя… Возможно, она кажется мне некрасивой, поскольку я знаю ее сто лет.
И действительно, я знаю ее, как говорится, испокон веков. Еще от сотворения мира знаю, с криптозоя, палеозоя, гибели динозавров, с зарождения жизни на Земле. С момента Большого взрыва, образовавшего Вселенную, в которую мы заключены, как в гигантскую тюрьму. Когда в первоматерии не наблюдалось еще никаких системных образований, мы с Лидой уже были летящими по параллельным курсам атомами, первыми молекулами, соединенными за руки валентными, что прочнее брачных или деловых, связями. В первичном бульоне мы плавали рядом в виде тех самых сгустков, из которых впоследствии из–за недосмотра высших сил или по трагической случайности образовались микроорганизмы. Мы были двумя амебами, вопросительно шевелившими усиками, были хорошо подобранной парой инфузорий–туфелек. В эпоху протерозоя по неизвестному циркулярному решению мой пол в сопроводительной документации был определен как «муж.», а ее — как «жен.», что предопределило наши кардинальные различия — при сходстве, следовавшем из нашего одинакового происхождения, воспитания и местообитания.
Во время пермской эпохи мы дружно выползли на сушу. Юрский период развел нас по разные стороны баррикад — я, обладая негнущимся хребтом, ползал на четырех лапах и шевелил хвостом, а Лида летала, взмахивая перепончатыми крыльями. Однако кайнозой примирил нас вновь. Он поднял нас с четверенек и одарил растительностью, с которой Лида регулярно борется теперь всеми хитроумными методами, подаренными дамам современной цивилизацией. Встав с четверенек, я поймал первого мыша и перешел к сыроедению, Лида последовала моему примеру позднее, ведь голод не тетка, одной амброзией сыт не будешь.
В каменном веке я бегал с дубинкой за мамонтом, а Лида караулила огонь в пещере, но уже тогда она делала это через пень–колоду! Валялась на подстилке из лугового сена, болтая в воздухе ногами, а в пещере было неприбрано, очаг погас, ужин не приготовлен, сладкие плоды не собраны, поэтому, вернувшись после безрезультатной охоты, я вынужден был учить мою напарницу уму–разуму той же самой дубиной, что служила мне во время охоты. На это Лида куксилась, обиженно краснела кукушечьим носом, влажнела глазами и убегала из пещеры — дуться. Она не собирала плодов или хвороста для костра, не дробила злаки в каменной ступке, не пекла на раскаленных камнях лепешки, как это принято было в бронзовом веке. Вместо общественно полезных занятий она часами слушала шепот реки, расшифровывала перебранку листьев в кронах деревьев или пялилась на крупные — с ладонь — звезды, до которых в ту эпоху, помнится мне, было рукой подать.
Она и теперь такая же! Лепешек от нее сроду не дождешься (если не считать клюквенного пирога, волглого, непропеченного, которым Лида гордится как единственным съедобным творением своих неумелых рук), максимум, чего можно от нее получить, — это стухший от неправильного хранения полуфабрикат из ближайшего супермаркета; кроме того, черствый и невкусный хлеб, вечные горы грязных тарелок на кухне, невыветриваемый запах неухоженной старости из–за ее неподъемной бабки, невкусный затхлый кисловатый дух — ее собственный аромат старой девы, стеснительной перезрелой отличницы, еженощно сражающейся с демонами своих гипертрофированных комплексов. Плюс немодная одежда и мечтательность романтической институтки, полагающей, что дети рождаются от ангельских поцелуев, — эта мечтательность все еще жива в ней, несмотря на всю анатомическую осведомленность Лиды, на хроническую пятерку по биологии, на тычинки и пестики, несмотря на мой циничный взгляд на эти вещи, тщательно, но тщетно прививаемый ей в продолжение нашего долгого, слишком долгого знакомства…
И при всех ее недостатках, при всей безалаберности и бесхозяйственности, при всей ее патологической бесприютности, вдобавок к этим чертам (от которых любой нормальный мужик сбежал бы без оглядки) вечный мечтательный взгляд в заоконную непроглядную темень, адский ум, жуткая начитанность и странное желание все это скрыть под демонстративной неприметностью. Привычная мимикрия маленького человека, неистребимая совковая усредненность!
Все обстоятельства биографии (кроме разницы в соответствующих анкетных графах, твердящих о принадлежности к полу) у нас с Лидой были схожими: мы жили на соседних улицах, ходили в один и тот же детский сад, в одну и ту же группу. Уже в ясельном возрасте Лида была самой некрасивой девочкой, тогда как я числился любимцем всех воспитательниц и приходящих бабушек, которые щедро одаривали меня поцелуями, конфетами и искренним восхищением, в то время как конкуренты–ясельники награждали меня тумаками, ябедами и вспышками незаслуженной подлости, от которой мне приходилось защищаться намертво прикипевшей к лицу маской презрения, а иногда — злыми кулаками.
Позже мы с Лидой пошли в одну и ту же школу, правда, в параллельные классы. Мы пели жизнерадостные песни про «раз–дождинку» и «раз–ступеньку» на одних и тех же пионерских утренниках. Но я — неизменно в первом, лицевом ряду, краса и гордость, эталон пионера, заводила и выдумщик, любимец публики и бездетных педагогинь, а Лида — в задних, камчаточных рядах, куда хитроумные учителя сплавляли всю некондицию.