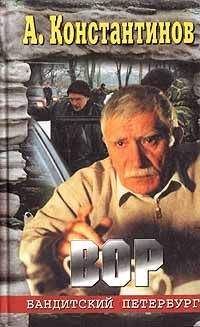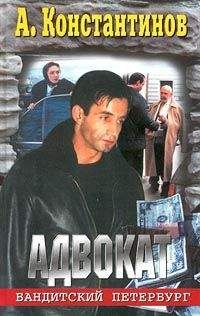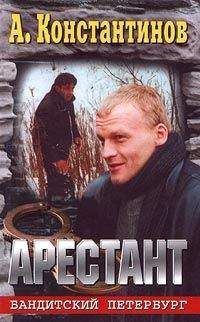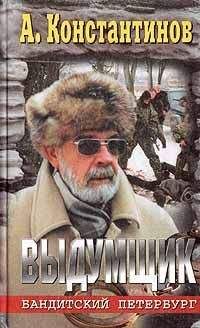Андрей Константинов - Журналист
— Кончилось твое время, Витя… Проиграл ты. Сколько хочешь можешь пыжиться, профессионала из себя строить, а ведь проиграл-то ты. И кому, Витя? Студенту-дилетанту. А?! Что — не так? Хуево тебе сейчас, правда? И никакой ты не профи, гандон блядский, курва ты, Витюша.
Как ни пытался Кукаринцев сохранить улыбочку на лице, но переросла она в оскал, его левое веко задергалось в нервном тике, а на шее выступили красные пятна.
— Ты-то чем лучше, студент? Над связанным куражишься? Развязал бы мне руки — вот и посмотрели бы тогда, кто из нас гандон, кто проиграл, кто выиграл. Твои дружки за тебя все сделали, так что если я кому и проиграл, то им, а не тебе.
Андрей в ответ зло расхохотался и подошел к Кукаринцеву вплотную.
— А какой мне интерес, Витюша, руки тебе развязывать? А? Шанс получить хочешь? Он дорого стоит, шанс-то…
Оба с ненавистью смотрели друг на друга и тяжело дышали, наконец Кука, подавив в груди какой-то нутряной звериный клекот, прошипел сквозь зубы:
— Развяжи мне руки, если не трус. Слышь, Обнорский?! Давай — по-мужски все выясним! Хочешь про Илью своего узнать? Так и быть — скажу тебе. Ты меня развяжешь — я тебе рассказываю. А потом и выясним, кто из нас чего стоит… Что — кишка тонка? Трус ты, Обнорский. Грицалюк, покойник, в Йемене тебя на голый испуг взял — не забыл еще, как дело было? И сейчас ты меня боишься, а я тебя — нет. И не взял бы ты меня никогда в одиночку, сынок. Усрался бы, а не взял.
Как ни говорил сам себе Обнорский, что Кукаринцев нарочно выводит его из себя, пытаясь выиграть время и завладеть инициативой в разговоре, все равно глаза ему начала застилать красная муть яростной, нечеловеческой ненависти. Знал Кука, по каким болевым точкам бить, знал…
Андрей провел рукой по лицу, с которого стекали капли пота, и хрипло выдохнул:
— По-мужски все выяснить хочешь, сволочь? Считай — уговорил. Только про Илью ты мне сначала расскажешь, а уж потом я тебя развяжу. Боюсь, говоришь?! Отбоялся я все свое, Витя! Это ты сидишь и трясешься, потому что смерть свою чуешь. Метка у тебя на морде, мертвый ты уже!
Андрею и в самом деле почудился на перекошенном лице Кукаринцева некий отпечаток, и он вспомнил, как рассказывал однажды Сиротин, что иногда действительно на войне трудноописуемая словами отметина смерти проступала сквозь черты живых еще людей…
Кукаринцев, казалось, успокоился, он с интересом посмотрел на Обнорского и спросил почти спокойно:
— Где гарантии, что ты развяжешь меня, когда я тебе про твоего дружка расскажу?
Андрей покачал головой:
— Я тебе слово даю. А других гарантий ты все равно не получишь.
Кука усмехнулся и кивнул:
— Ну что ж, студент. Посмотрим, чего твое слово стоит. Ну так что тебя интересует? Как Новоселов согласился газом травануться? Сам догадаться не сумел? А ведь просто все. Помнишь, какой это день был?
У Андрея словно щелкнуло что-то в голове, замкнулся какой-то контакт, и он, пораженный, прошептал:
— Ирина…
— Правильно мыслишь, Палестинец. Дошло наконец-то. Значит, не совсем ты безнадежный, попал бы вовремя в нормальные руки — глядишь, и из тебя бы толк получился… Илья твой, кстати сказать, мужчиной оказался… Не сучил ножками, не плакал. Сообразительным он парнем был, понял, что ему все равно конец, зато ушел красиво, бабу свою за собой не потянул. Я ему честное предложение сделал: либо он сам себя кончает и соответствующее письмо пишет, либо при невыясненных обстоятельствах погибает, но тогда у его жены на таможне в Триполи наркотики находят. Знаешь, что с такими бабами в Ливии делают?
— Знаю, — прошептал Обнорский, глядя на сидящего перед ним выродка остановившимися глазами.
— Ну вот, — кивнул Кукаринцев. — И Илья знал. Мужа находят убитым, жену тормозят на таможне с наркотой… Значит, разборки с местными самсарами[61] у семейства Новоселовых были… Даже если бы и выдали потом Новоселову нашим — она из здешней тюрьмы свихнувшейся калекой вышла бы… Здесь ведь специальных тюрем для женщин нет…
Обнорский и сам это знал. В 1987 году в Триполе двух жен советских офицеров поймали в супермаркете на мелком воровстве и отвезли в тюрьму, где сидели местные уголовники. Когда через три дня посольство добилось их освобождения, несчастные женщины даже не могли уже ходить — трое суток их насиловала без перерыва вся тюрьма…
— Ну и все, — продолжал между тем Кукаринцев. — Он письмо написал, сам баллон газовый в спальню оттащил. Хорошо держался парень. Мне — хочешь верь, хочешь нет! — даже как-то обидно стало, что из-за этого пидора Выродина приходится такие дела делать. Не полез бы Илья в тот самолет — ничего бы и не было. Да, видать, судьба… Кстати, раз уж у нас такой разговор откровенный пошел, скажи мне, где прокол вышел? Я вообще-то и сам догадываюсь, но уж так, для развития кругозора…
Обнорский долго молчал, потом достал очередную сигарету и закурил.
— Креветки, — наконец сказал он. — Илья очень не любил креветки. Тошнило его от них.
— Так я и думал, — прищелкнул языком Кукаринцев, — Мне это место в письме тоже как-то не понравилось… Только его уже не переписать было — все мы задним умом крепки…
Андрей глубоко затянулся и задал Кукаринцеву вопрос:
— Скажи, Витя… А ради чего ты все это наворотил? Что за борта на «Майтигу» приходили? С оружием? Ты, видать, как в Йемене им торговать начал, так и остановиться никак не можешь? Одного понять не могу — что же за страна у нас такая, если запросто целыми самолетами воровать можно…
Кукаринцев подмигнул Обнорскому и укоризненно протянул:
— Ну, студент, мы так не договаривались… Про Илью я тебе по-честному рассказал, а про другое у нас уговора не было. Да и незачем тебе это знать. Все равно переварить не успеешь, поверь мне. И не важно, кто из нас первым на тот свет уйдет, — ты, Обнорский, все равно не жилец. Не надо было тебе лезть в эту историю. Потому что за самолетами, что ты ворованными назвал, стоят люди, про которых ты только в газетах читал… Ясно тебе?
— Ясно, — ответил Андрей. — Илья тебя узнал перед смертью?
— Узнал, — кивнул Кукаринцев. — Потому и понял все сразу. Я же говорю — понятливый он был. Ну так что, студент, — слово держать будешь?
Обнорский молча шагнул к его креслу, вытащил из кармана маленький перочинный нож и надрезал бинты, которыми была примотана к подлокотнику левая рука Куки. Потом отошел на несколько шагов и все так же молча смотрел, как лихорадочно развязывает сам себя Кукаринцев. Страха Обнорский никакого не испытывал — сгорел его страх, действительно, одна только ненависть осталась. Ощутил он, правда, несильный укор совести — просил ведь Сандибад ни в коем случае не развязывать Куку… Ну, палестинец себя в обиду не даст. Да и не выйдет Кука из подвала, не позволит ему Андрей этого сделать. А Сандибаду он потом все объяснит, и тот должен будет его понять. Потому что не Куке хотел Андрей доказать, что не боится его, а самому себе… Не с капитаном Кукаринцевым хотел он драться, а со всеми теми, кто исковеркал и опохабил его жизнь, с теми, для кого люди были всего лишь расходным материалом.
Между тем Кука полностью освободился, встал и мгновенно скрутил разложенные полосы бинтов в крепкий толстый жгут. Растянув этот жгут руками, он усмехнулся, глядя на Обнорского с жалостью, как на убогого.
— Все-таки ты дилетант, студент. Дилетант и романтик. Дурак ты, Обнорский, эмоциональный дурак. Даже жалко, что твоего благородства уже никто не оценит.
Андрей уже не обращал внимания на слова, вылетавшие изо рта Кукаринцева, ловко манипулировавшего жгутом. Обнорский чуть подался вперед и внимательно следил за плавными, уверенными движениями Кукаринцева, постепенно приближавшегося к нему. Внезапно лицо Куки исказило выражение крайнего удивления, у него буквально глаза полезли на лоб, словно за спиной Андрея появилось нечто запредельно страшное.
— Старый номер, Витя, — усмехнулся Обнорский. — Даже неинтересно…
Но в этот момент Обнорский и сам вдруг услышал какой-то шорох сзади. Обернуться он не успел, потому что две пары крепких рук обхватили его с двух сторон, мгновенно блокировав все возможности к сопротивлению. Сковавшие его объятия были настолько плотными, что Андрей не мог даже повернуть головы; откуда-то из-за его спины выскочили еще двое и бросились к Кукаринцеву, который от неожиданности успел захлестнуть руку одного из нападавших в петлю жгута, но второй человек кувыркнулся вперед, и Кука осел на пол, словно сломанная кукла, — Обнорский даже и удара-то никакого не заметил…
Андрей, по-прежнему не понимая, что происходит, попытался рвануться вперед, потом резко присел, чтобы попробовать освободиться от оплетавших его захватов, но добился лишь того, что невидимки сдавили его еще крепче — так, что он почувствовал резкую боль в суставах рук. И в этот момент кто-то сзади сказал знакомым голосом по-русски: