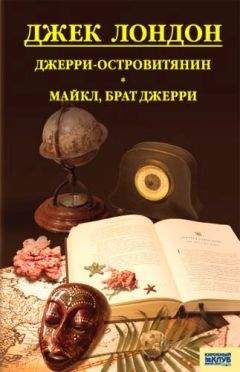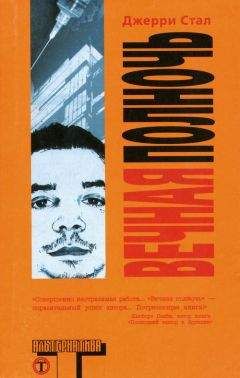Наталья Троицкая - Сиверсия
– Вот, волк меня съешь, помощничка я себе призвал! – досадовал дед. – Спокаивал себя, мол, Саня приедет – помру. А тут еще Бог укажет, кто скорее!
– Правильно говоришь, отец, – прохрипел Хабаров.
Митрич отвесил ему щедрую оплеуху, сунул кружку со снадобьем в руки.
– Допивай сам. Не дите малое, чтоб за тобою ходить!
Хабаров сделал еще глоток и закашлялся. От горечи напитка спазмом перехватило горло.
– Отвар твой дождем и полынью пахнет.
– Горькими слезами он пахнет. Пей слезы-то. Понадобятся они тебе…
Старик взял ухват и, подцепив им чугунок, понес к столу.
– Ох, ты! – вдруг вскрикнул он и остановился на полпути. – Дрянная рухлядь! Других лечу, а у самого спина – разворошенный муравейник. Чего лежишь-то, как новопреставленный?! Подхвати чугунок-то. Без супу останемся!
Хабаров отбросил к стене самодельное одеяло, сшитое из трех шкур сибирских козуль[48], поднялся с самодельной кровати и пошел к деду.
– Прости, отец, – сказал он, внезапно устыдившись и своей немощи, и убивающего душу пессимизма.
Старик сел за стол, привалился спиной к стене.
– Кашу в маленьком чугунке достань. Да руками-то куда ты лезешь?! Ухват же есть! Эх-ма… Недотепа! Не умеешь ты… – вздохнул дед. – И жить не умеешь…
Ели молча. Сначала грибной суп, потом кашу из проросших зерен пшеницы, приправленную кедровым маслом. Хабаров ел жадно, с аппетитом прихлебывая. Старик ел аккуратно, не спеша, оказывая почтение каждой ложечке. Его уважение к еде было абсолютным, действительно, как к дару Господа. Он съел мало, но насытился, и сидел довольный, с видом счастливого человека.
– Митрич, хорошо у тебя. Спокойно…
Хабаров подпер кулаком щеку и с добродушной улыбкой уставился на старика.
– Это отвар из трав твои мысли спотыкающиеся обуздал. Обузданная мысль приводит к счастью[49].
Хабаров усмехнулся.
– А что приводит к страданию?
– Причина всех страданий – желание. Это сказано еще Буддой. Христианские заповеди о том же.
– Все это бородатая философия, оторванная от жизни.
Митрич вздохнул, с сожалением пожал плечами.
– Люди слабы. Очень часто они торопятся объявить бессмысленным то, что непосредственно сами не понимают. Вот и ты имеешь закономерное соответствие своих действий и их плодов. Не долго тебе осталось с твоей-то чистой лицом философией! Валялся на полу, в муках корчился. Как тебя еще шибануть надо, чтоб ты прочувствовал, чтоб дураком быть перестал?!
Хабарова бросило в жар.
– Судьба приласкала тебя, дала тебе счастье, которого ты так хотел. А сил нести это счастье у тебя нету. Нету! Неподъемным оно тебе оказалось. Надорвался ты! К будущему своему, счастливому, оказался не готов. Потому и болячки твои именно сейчас полезли. Счастье может нести лишь тот, у кого в душе много любви. А ты – убийца! Ты всю жизнь убивал в себе и в других чувство любви, давил его, рвал! А ведь оно нам не принадлежит. К нему мы не имеем права прикасаться! Ты ни к кому не привязывался, никого не впускал в свой драгоценный внутренний мирок. Мол, я – «одиночка». Мол, один такой исключительный! Душонку, стонущую, старался задавить спиртным да работой. Думал, все еще будет. Думал, нету пока настоящего. Пока не живу! Сам себе лгал… Теперь уперся лбом-то, упрямым, в болезнь, и идти дальше некуда! Да и времени нету. Сказано: не совершай зла ни телом, ни словом, ни мыслью. Где там! Это же бородатая философия! Есть Закон: справедливо поступай с другими, иначе не можешь требовать справедливости для себя. Люди получают наказание через дурные поступки, а не за них. Ты и любишь-то, как чугунок с кашей из печки тащишь. Первое движение надо делать не к себе, а от себя. Ухватом чтобы чугунок-то подцепить, надо от себя ухват послать. Потом, как чугунок подцепишь, к себе тяни. А ты лапами, грязными, загребущими, на пролом. Хвать – и тащишь! Без разницы – кашу ли, женщину… «Кто полон желаний, никогда не может избавиться от сознания своего ничтожества», – сказано в почти тысячелетней «Тэттэки Тосуи». Вот и жрет тебя это осознание. Любимых женщин, благополучную судьбу ты готов был поставить выше Создателя; чтобы спастись и спасти тебя, они были вынуждены рвать с тобой. Ты обижался, ненавидел, осуждал, ревновал, не хотел жить. Эти чувства – черные. Они несут с собой болезни. А любовь где? Выходит, что не только будущее, но и прошлое твое просит тебя расплатиться. А ты продолжаешь обижаться, осуждать, презирать, не принимая посланное тебе испытание. Пытался даже себя убить. Агрессия через край! Как же! Характер! Носишься с гордыней своей как с писаной торбой. Рак поедает именно гордыню. Говорят, кто отказался от гордости, тому даже боги завидуют! Презрение и жалость к себе есть, жажда желаний есть, уныние, то есть ненависть к себе и Создателю – есть, а любви и смирения нету. Не вижу… Ибо сказано в Библии: «А еще по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь…»
Хабаров вытер выступившие на лбу капельки пота.
– Потеешь, причину своей болезни ищешь… Что ее искать-то? Она не пряталась.
– Получается, я самый плохой? Хуже убийцы-душегуба, хуже подонка-насильника, хуже вора?
– Ты болезнь пытаешься связать с нарушением не Божественной, а человеческой этики. И потом, кто сказал тебе, что ты лучше?!
Хабаров застыл в изумлении.
– В древнем Китае люди нанизывали монеты на бечевку, протаскивая ее через отверстия в центре монет. Однажды некий глупец, желая похитить монеты, схватился за веревку, а монеты бойко соскользнули в карман хозяина. Так и ты. Кичишься – мол, не убийца, не душегуб, не насильник, не вор, и вообще достойней моей персоны трудно сыскать! А сам, как глупец, сидишь с пустой веревкой в руках да еще хвастаешь, что клад держишь!
– Мне на этой веревке удавиться впору!
– Уныние, постоянное недовольство собой и своей судьбой – это почти всегда рак. Жить-то надо не материальным или духовным, жить-то надо любовью! «Если нет во мне любви, то я ничто…[50]» – говорит апостол Павел.
– Как же все это понять?
– Старики говорили: «Живи спросту – проживешь лет со сту!» И мудрствовать не надо.
– Я так… так жить хочу! – запинаясь произнес Хабаров. – Именно сейчас!
– Искать надо…
– Искать? Что искать?
– Ищущим, который обрящет, становятся по велению души и без посторонней помощи.
– Но как?
– Смотри на мир другими глазами. Лечи душу, а не тело. Не думай о будущем, иначе его потеряешь. Сказано: «И говорил Он: Авва Отче! Все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты[51]».
Хабаров коснулся подбородком сомкнутых рук, надолго задумался. Было слышно, как за окном потрескивает мороз и, будто откликаясь ему, ухает, хохочет далеко в тайге ночная птица.
– Я помню, незадолго до смерти отец рассказал мне легенду. Будто у одного из северных народов есть поверье, что раз в год в морозной, заснеженной тундре, среди льда и снега, зацветают потрясающей красоты голубые цветы – Хрустальная Сиверсия. Кто находит эти цветы, тот обретает любовь… Мне нужно их найти. Не для себя. Для нее…
Время уступило, оно замедлило свой ход, оставляя шанс для поиска правильного решения.
Утром его разбудил навязчивый шаркающий звук. Хабаров открыл глаза. Митрич, держась за поясницу обеими руками, ходил по избушке туда-сюда. Его ноги были обуты в обрезанные наподобие ботинок унты. Обувь была велика старику размера на четыре, при ходьбе шумно волочилась по полу. Именно от этого шаркающего звука, задевающего нервы, Хабаров и проснулся.
– Вставай, лежебока! – недружелюбно приветствовал его Митрич. – Рассвело уже. Дела надо делать. А то всю жизнь проспишь.
Хабаров послушно поднялся, потер ладонями лицо. Еще часа два-три он бы поспал. В избушке было холодно. Выбравшись из-под шкур, Хабаров поежился, шумно выдохнул, и его теплое дыхание растворилось паром в остывшем воздухе.
– Одевайся. Воду надо носить и дрова.
– Чего с утра-то? Не рано?
– В самый раз. К вечеру пурга будет.
– Может, чаю сначала согреем? Что-то мне пить хочется после твоего вчерашнего угощения.
– У колодца и напьешься!
– Завтрак тоже отменяется?
Старик накинул на плечи потрепанный рыжий козий тулуп и больше ни слова не говоря пошел на улицу.
Морозный, хрустальный воздух бодрил. Солнце светило во все лопатки. Кедры что-то шептали, помахивая пушистыми зелеными лапами. На белоснежном девственном снегу вновь играли, шалили, гоняясь друг за дружкой, переливаясь всеми цветами радуги, ошалевшие блики-зайчики.
Недалеко, на опушке, выводил свою нехитрую дробь дятел, а возле бани, на сирени, росшей здесь, в тайге, не привычным кустарником, а высоким крепким деревом, суетилась, перебираясь с ветки на ветку, белка.
Белка была пепельно-серая, как раз под цвет коры. Пушистый хвост и голова были черными. Черными были бусинки-глазки и кисточки на серых закругленных ушах. Только на брюшке виднелось продолговатое белесое пятнышко.