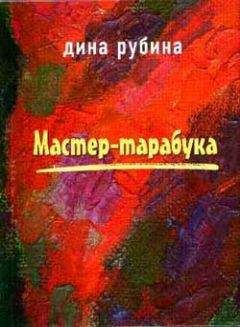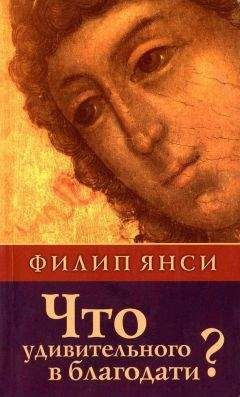Владимир Варшавский - Ожидание
Звон будильника давно смолк. Страх опоздать на службу подбросил меня на постели. Ноги привычным движением всунулись в туфли. Минутная стрелка будильника неумолимо продвигается по черным меткам. Но я все сидел, покачиваясь в изнеможении. Сейчас пойду под душ, потом побреюсь, оденусь. Но прежде нужно героическим усилием заставить себя встать. Неудержимо тянет повалиться обратно в сон. Во всем теле такая усталость, словно я проснулся на другой планете, где воздух тяжелее, чем на земле. Люди будут летать на другие планеты. Я потому так боюсь смерти, что жизнь проходит, скоро уже старость, а я еще по-настоящему не начал жить.
До самого вечера, в форменной куртке вроде военной и в штанах с лампасами, я буду ходить, разнося по канцеляриям письма и пакеты. Ни завтра, ни послезавтра ничего другого, ничего более радостного не предвиделось. Мне было странно, что это и есть моя жизнь.
Глупость моего поведения на людях под действием механизмов обиды, зависти, раздражения, страха. И другие люди такие же механические. Вчера в автобусе какая-то растрепанная пожилая женщина, с красным возбужденным лицом, громко говорила сама с собой, так быстро, что ничего нельзя было понять. Только повторялись всё одни и те же гневные интонации. Я ехал минут двадцать, а она все говорила. Чувствовалось, ее сознание остановилось на одной мысли, она говорит машинально. Иначе она не могла бы так долго непрерывно говорить… Или негритянка в метро… Длинное черное лицо, обрамленное страшными войлочными патлами. Она вдруг хватала себя рукой за лошадиные зубы, словно хотела от нестерпимой боли их вырвать и, мотая головой, громко кричала, но мгновенно вдруг успокаивалась, потом опять кричала.
Один из героев Достоевского говорит о людях: «недоделанные, пробные существа, созданные в насмешку». «Созданные в насмешку» — это неверно. Если жизнь и мир не имеют человеческого значения, если нет Бога, то кто же тогда насмехается? А если Бог есть, Он не стал бы создавать людей в насмешку. Но «недоделанные» существа — это правильно. Я сам всегда чувствовал себя таким. Неясность моих мыслей, неспособность сосредоточиться, додумать.
Недавно я прочел — в пещере недалеко от Пекина среди останков других животных нашли кости синантропа. Череп больше, чем у гориллы, но все-таки плоский, а не куполообразный, как у человека. Скульпторша восстановила по обломкам костей почти человеческое лицо, с печальными и страшными глазами. Это была самка, ученые в шутку назвали ее Нелли. Рядом с костями нашли каменные орудия, пепел. Правда, некоторые ученые думают, что добывали огонь и делали орудия не синантропы, а какие-то другие животные, более человекообразные. Они убивали и ели синантропов. Значит и Нелли они убили и съели.
Теперь у человека череп ёмче, куполом, но достаточно ли все-таки ёмкий? Почему мне тогда так трудно думать? Я не выиграл в «генетическую лотерею». Родиться бы на полвека позже! Наука так быстро теперь идет вперед. Скоро найдут способы усовершенствовать мозг, заставят, например, работать множество неиспользованных еще нейронов, или даже будут прибегать к прямому воздействию: механическому, химическому, еще какому-нибудь. Вот было бы замечательно: у меня в голове вместо теперешнего неверного света зажжется живое солнце. Или произойдет естественная мутация. Говорят, эволюция в человеке не только не остановилась, а совершается все быстрее и быстрее. Вдруг еще при моей жизни начнется перерождение человечества в какой-то высший зоологический вид. То, что я так этого хотел, так был уверен в глубине сознания, что это должно произойти, и даже напряженность положения в мире, и апокалиптические взрывы чудовищных атомных бомб, и то, что людям стало тесно на земле, — все казалось мне залогом, что время уже приблизилось.
* * *Должность несложная. Каждые полчаса обойти десятка два канцелярий, принести и забрать пакеты, письма, книги. Совсем не тяжело, но к вечеру я очень уставал, вероятно, главным образом, от скуки. Утром еще ничего, кое-как удавалось продолжать думать. Но часам к четырем жизнь во мне почти останавливалась. Только считаешь, сколько еще остается до конца занятий. Чтобы бороться с отчаянием, я старался думать о Восточной реке. Каждое утро, когда я шел на службу, то голубая, то серая, то сверкая серебряной лавой, она встречала меня в пролете между огромным остекленным небоскребом, где я работал, и соседним заводом. На крыше этого завода росла целая роща толстых высоких труб. Над ними, заволоченное их черным дымом, небо раскрывалось в каком-то грозном смятении, как на картинах страшного суда, как над вокзалами, когда железные дороги были еще не электрифицированы.
В России фабричные трубы, кажется, не такие были. Я смотрю из окна поезда. Зеленые деревья, низкие домики. Над ними таинственная, без окон и дверей, круглая, тонкая как свечка, высокая кирпичная башня. Если стоять там наверху — не удержать равновесия. Качнулся, хватая руками воздух и полетел вниз, в страшное черное жерло. Ведь для того, чтобы дым мог выходить, она сверху донизу полая. А как же трубочисты? Как они влезают наверх? Я не мог бы, голова бы закружилась. Но вместе с боязнью — восхищение. Она так нежно розовела в безоблачном небе. Там была добрая, проникнутая знанием вечного существования, радостная тишина. Конечно, в детстве я не думал такими словами, но я видел эту тишину, в ней было обещание покоя и счастья.
А эти трубы на крыше нью-йоркского завода были грязно-бежевые. Неприятное впечатление: не то отростки какого-то окаменелого гада, не то обугленные стволы допотопных деревьев. Сбившись в кучу, они стояли батареей наведенных в небо тяжелый зенитных орудий. Впрочем, если вглядеться пристальнее: завод, как завод. По углам цементированного дворика даже пробивается травка.
Недалеко от завода, на небольшом пустыре, росли три дерева. Сегодня шальной ветер буйно терзал, крутил их ветви. Будто разыгрывая пантомиму горя, сетуя, жалуясь, они кругообразно кланялись вершинами, потом, встряхиваясь всеми листьями, быстро и упруго выпрямлялись и сейчас же опять кланялись, и так без устали, снова и снова.
Обходя мои канцелярии, я старался задерживаться около окон. В те, что выходили на запад, была видна, как на дне горного ущелья, Первая Авеню. За ней, во всей славе своих небоскребов — Манхаттан. Могучие башни Крейслера и Эмпайр-стэт, твердыня Вальдорф-Астории, Рокфеллер-Центр, еще какие-то многоэтажные громады, то кубические, то уступами, как пирамиды ацтеков. У их подошвы — плоские кварталы четырехэтажных домов. По сравнению с этими ничтожными домами еще больше чувствовалась нечеловеческая громадность небоскребов. Из окна тридцать шестого этажа я смотрел на них, как смотришь из самолета на альпийские вершины.
Я нашел в этом каменном царстве те три дерева на пустыре. Как раз их осветило солнце. Меня поразил прелестный цвет их листвы — мягкий, матово-зеленый, как на картинах венецианской школы. Они по-прежнему продолжали свою пантомиму. Я вдруг почувствовал радость. Мне казалось, я подсмотрел жизнь какого-то волшебного мира. Нет, не подсмотрел, а, удивляясь, как я мог забыть об этом, вспомнил, спохватился, что мир прекрасен. Словно я все время по рассеянности жил далеко от моего настоящего существования на земле, а теперь вдруг понял, какое чудо жить. Мне захотелось проверить: не мираж ли это? Нет, любовь к этим деревьям, к зеленому цвету их листвы оставалась. Любовь и радость. Сегодня мне было достаточно только видеть и я не жалел, что эти деревья были вне меня, что я с ними не соединен.
Еще больше я любил останавливаться около окон, что выходили на Восточную реку. На Куинс, на том берегу, было скучно смотреть. Железный мост, светло-коричневая, словно сложенная из детских кубиков церковка. За ней оловянно светлеет не то канал, не то асфальт. Приземистый, жалкий город по сравнению с Манхаттаном. Все какие-то склады, заводы, цистерны, дымят фабричные трубы. Будто вся земля там дышала, дымилась сопками. Проходили облака и цвет столбов дыма менялся. То серые, то ярко белые, то бурые, почти черные, они, клубясь, подымались в небо, бледнея и тая в вышине как призраки.
А на реку никогда не было скучно смотреть. Странно, внутри здания, по сотам канцелярий, сновало столько озабоченных служащих, стучали пишущие машинки и телетайпы, обсуждались в устланных коврами кабинетах важные дела. И все-таки казалось, здесь никогда ничего не происходит. Через одинаковые промежутки времени, я мерным шагом обходил мои канцелярии. Так ходят фигуры на средневековых часах. А на реке все поминутно менялось, жило, двигалось. Сколько маленьких и больших пароходов, буксиров, паромов, барж. Посередине реки — каменным аллигатором дремлет островок. На его черную спину слетались чайки. Чувствовалось, океан совсем близко.
И всегда все по-иному освещено. Один день солнце. Небо почти по-летнему голубое, лишь снизу линялое, почти белое. Но и эта белесина постепенно голубеет. Вода совсем синяя. А на другой день все голубовато-серое и только на юго-востоке лиловая мгла и сквозь эту мглу нежно расцветает розовое сияние. Еще через день весь вид за окном будто внутри огромного хризолита: зеленая река, зеленое небо.