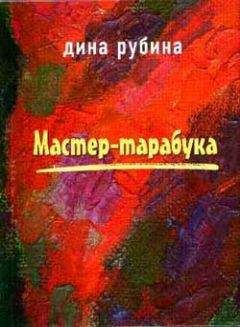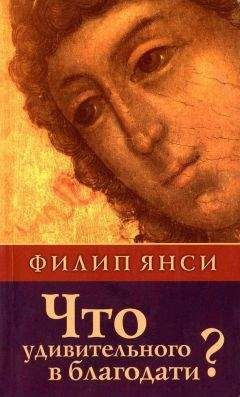Владимир Варшавский - Ожидание
— Поезжай на Баури, — посоветовал мне знакомый поэт, — стоит посмотреть. Это нью-йоркское дно. Туда попадают все, кто не выдержал безумия городской сутолоки, перестал поспевать за движением чудовищных конвейеров Нью-Йорка. Понимаешь, своего рода свалка для отработанного человеческого шлака.
В то время тут еще проходила последняя оставшаяся в Нью-Йорке линия надземного метро. Настил железного моста загромоздил улицу во всю ширину. Над головой с тяжким грохотом и лязгом поезда проносятся совсем близко от стен домов. Казалось, захоти кто-нибудь из жильцов, то мог бы, протянув руку из окна, тронуть пробегавшие мимо вагоны.
На тротуаре толпа. Я еще издали почувствовал: это особенная толпа, будто ознаменованная чем-то страшным. Подойдя ближе, я с волнением рассмотрел: трясущиеся с перепоя, в засаленных обносках, небритые, красноносые, с мутными безумными глазами. Один, с верхней губой, отвратительно съеденной какой-то ужасной болезнью, что-то продает из-под полы. Он взглянул на меня беглым настороженным взглядом, но увидев, что я не опасен, продолжал возбужденно торговаться. У другого на голубоватом разбухшем лице — словно ножом прорезанные щели заплывших глаз.
Стыдясь собственного здоровья и благополучия, я шел среди них, озираясь с жалостью и ужасом и сейчас же отводя глаза. Боялся, вдруг заметят, что я их рассматриваю.
Я пошел в другую сторону. Здесь было меньше народу и улица казалась шире, а дома ниже. Но все такие же пропащие, спившиеся люди стоят у входа в ночлежки или закусывают, сидя на тротуаре. Другие спят в дверных нишах запертых лавок. На противоположном тротуаре высокий худой человек, со следами побоев на щеках и свежей кровавой ссадиной на носу, выкрикивает угрозы каким-то обидчикам. Несмотря на его жалкие, злобные крики, все на этой улице — и люди и прокаженные дома — производило неясное впечатление усталости от жизни, усталости самой жизни.
Пузатый кривоногий старик, с толстым, как вымя, зобом, обросшим редкими белыми иглами, пошатываясь, переходит улицу. Он обернулся и посмотрел на меня сердито и вместе с тем как бы стыдливо. Было сразу видно, он недолго протянет. Да и другие тоже. Они умирают у всех на глазах. А ведь по Евангелию они — наши братья: «Поелику вы не сделали одному из малых сих, то не сделали Мне». Этот старик с зобом — один из малых сих, с которыми отождествлял себя Христос. Не любить его — не любить Христа. Но я, как неверующий у Бодлера. Ангел говорит ему, нужно любить бедных, глупых, злых, еще каких-то а он отвечает: «Не хочу». Нет, я хотел бы, но не могу. Я не совсем бесчувственный, мне жалко этого старика, но он внушает мне страх и отвращение, мне хочется поскорее уйти, а по Евангелию нужно помочь. Настоящее сострадание не боится, не бежит.
От одной мысли, что нужно что-то сделать, начать жить по-другому, я почувствовал усталость. Зачем же тогда я все говорю о христианстве? Это смешно, глупо, лицемерно. Ведь я знаю, — я никогда не стану христианином. Всегда так плохо, так устало себя чувствовал, а христианская любовь требует так много сил. Но разве я виноват, что я хилый, что во мне нет жизни, нет любви? И какая влажная, тяжелая духота! Нечем дышать. Открываешь рот, а воздуха нет.
Я шел, не веря, что люди могли согласиться жить в такой духоте, наверное, сейчас повеет свежим воздухом, должно повеять. Но я все не мог выйти из пределов застоялого, прямо до удивления, горячего воздуха. Никуда не спастись. Сквозь смигивание багрового свода моих бровей, я видел светлую на солнце мостовую и бледное, подернутое неприятной белесой поволокой небо над домами.
Почему я должен заботиться об этих спившихся людях? Я сам едва жив. Последние доллары подходят к концу, а работы нет. Меня самого, может быть, ждет такая же нищенская старость здесь на Баури. Нет, это неправда. Я все еще надеюсь, что моя жизнь переменится к лучшему, а у них впереди только нищета, болезнь, смерть. И ничего не исправить. Я всегда мечтал, что в будущем производство достигнет такого развития, что всё всем будут раздавать бесплатно и человеку больше не нужно будет заботиться о хлебе насущном. Древнее проклятие будет снято. Но алкоголики, верно, и тогда останутся и так же будут пить, даже пуще прежнего. Ведь теперь им поневоле приходится промышлять чем-нибудь. Говорят, некоторые из них, тряпичники, хорошо зарабатывают. А тогда у них совсем не будет причалов к действительности. Впрочем, они может быть счастливее и мудрее нас. Встают, когда хотят, никуда не торопятся, не боятся, что чего-то не сделали, не думают о завтрашнем дне. Я читал; стремление к крайнему возбуждению, к пароксизму, так же свойственно жизни, как инстинкт самосохранения. А алкоголь — одно из средств достичь такого состояния. Странно, я так боюсь и не люблю пьяных, а ведь у меня это с ними общее. Алкоголь помогает им достигнуть того чувства восхищения и освобождения, которое я испытывал в те странные мгновения, когда мне казалось, что мне сейчас откроется понимание всего. Ведь вот и в дионистическом культе соединение души с Богом, энтузиазм, достигался посредством опьянения. И древние арийцы тоже прибегали к опьяняющему напитку, который они называли «сома». А всякие священные яды, кактусы, наркотики! Я читал целый трактат об этом. Но все это механические способы. Я знаю подлинный опыт только в любви. А во мне нет любви…
VII
Сад на берегу моря. Со мною все мои близкие. Щемящая жалость: я недостаточно их любил. Тем радостнее было знать, что на самом деле никто из них не умер и не должен умереть, так как смерти нет. Меня даже удивляло, как я не знал об этом прежде.
Внезапный взрыв безжалостного звона разрушил счастье отказывавшегося мне таинственного объяснения. Оставленная отливом сна моя голова лежит, чугунно вдавившись в подушку. У самых глаз — желтый, непонятный, посторонний предмет — моя рука. Она будет такой после того невероятного невообразимого, чудовищного события — мерзостно восковая, как у всех мертвецов… Этот день неизбежно придет, с каждым часом приближается из темноты будущего.
Я возвращался из сна в постороннюю мне внешнюю действительность без радости, как Лазарь из гроба. За валом предплечья, сквозь дым печально и сочувственно молчавших сумерек, проступают отвесные стены. Какой-то грот или пещера? Но я сейчас же узнал мою комнату. Под моим взглядом все мгновенно установилось на своих обычных местах: шкаф, стол, стулья. Равнодушные соглядатаи моей жизни, они на самом деле все время здесь присутствовали, пока я спал. Я смотрел на них со странным чувством. Так Одиссея в аду смущала бледность теней героев.
За окном шум улицы, гудки автомобилей. Нынче понедельник, надо идти на службу. Это об этом хрипло звенел будильник, а вовсе не о новой жизни, как тот петух у Мандельштама: «на городской стене крылами бьет…» Пузатенький, скорее толстый воробей, чем петух, будильник пыжился захлопать крыльями. Выше, впотьмах, еле различимый, непроявленный образ — большая птица на заборе, ворон… (чем внимательнее, чем точнее описывать непосредственные впечатления, тем невразумительнее получатся).
Видения сна еще не совсем исчезли. Мне вспомнилось блаженное молочно-голубое сияние Бормского залива в мае. Еще пустой пляж. У берега море чуть колышется, как в плоском тазу. Невысокие волны лениво катятся одна за другой, с тихим журчанием разливаются по отмели и стекают обратно. Так уползает подол мантии. А следом солнце торопится стереть свое отражение, на миг просиявшее в неудержимо тускнеющей глазури высыхающего на глазах песка. Я знал, волны говорят о чем-то самом важном, но не мог заставить себя вслушаться. Спросонья я не сразу вспомнил, это только метафора, волны не говорят.
Холод внезапного понимания: я всегда себя обманывал, ожидая, что мне что-то откроется. Какая чепуха, глупость! Моих восприятий, моего сознания хватает, чтобы ходить на службу, чувствовать усталость, знать, что я умру, но когда я хочу сосредоточиться, всмотреться, чувство привычности окружающего исчезает. Сознание останавливается тогда перед чем-то несоизмеримым с представлениями и словами. В устрашающей неизвестности всего оставалось только чувство моего необъяснимого существования, соединенное с холодной, угрюмой, ясновидящей нелюбовью к самому себе. Полное одиночество. Я ничего не находил в себе: ни любви, ни надежды, ни вдохновения, ничего глубокого, радостного. Только на поверхности сознания проходят ничтожные, бессвязные мысли, бессвязные образы, бессвязные воспоминания. Прежде я всегда молился; «Господи, спаси и сохрани», а теперь было страшно не смерти, которая придет извне, а смерти внутри меня. Мне обязательно нужно было, чтобы был Бог, для того, чтобы Он пробудил во мне… Тут возникали только очень приблизительные сравнения: колодец, что я рыл в плену, в Германии — все ждал, вот забьет вода — или родник на юге Франции, на дороге в Сант-Максим. Какое тогда было солнце!