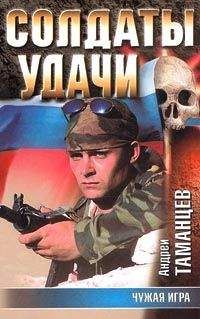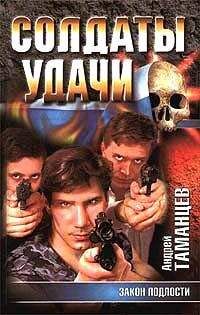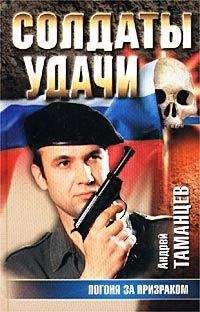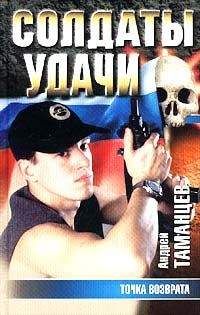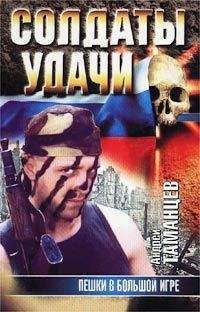Андрей Таманцев - Автономный рейд
Двое патрулей по стеночке, грамотно подстраховывая друг друга, прошли мимо часового и скрылись за углом.
«Я — Второй. Патруль прошел», — доложил часовой диспетчеру.
— Артист, патрули в брониках, — сообщил Боцман. — ПМы в руках на взводе. Очень аккуратные хлопцы.
— Понял тебя, — отозвался Артист с сожалением. И у него до последней минуты была надежда обойтись без стрельбы.
"Понял, Второй... Что там у вас? Откуда свежая земля? — Встревоженный диспетчер не отключился от связи с часовым, и было слышно то, что он говорил патрулю в рацию:
— Какая еще нора?.. Крот? Какие, на хрен, могут быть сейчас кроты? Ты их видишь?.. Уверен, что это они? Февраль же, на хрен. Они спать должны!.. Тепло от ламп? Подтаяло?.. — Голос с центрального поста стал спокойнее. — Ну ладно. Понял. Возвращайтесь".
— Пастух! Они возвращаются, — доложил Боцман и, готовясь, коснулся кончиками пальцев клавиш коммутатора.
— Артист, Док! Готовы? — возникая из мрака рядом с Боцманом, спросил Пастух.
— Так точно, — опять с натугой, теперь оттого, что опять раздвигал и поднимал бревна, отозвался Артист.
— С Богом! — подал сигнал Пастух, берясь обеими руками за рычаг из титанового сплава.
Патрули встали перед камерой наблюдения, закрепленной над дверью.
За массивной сталью чуть слышно клацнул электрозамок.
Боевики вышли из поля зрения камеры и потянули дверь на себя.
Боцман пробежался пальцами по клавишам. Цепь, идущая от телекамеры над дверью в каземат, разомкнулась, и на монитор диспетчера пошла запись с видеокамеры: пустой проход, спокойно, но бдительно несущий в своей норе службу часовой.
А в реальности часовой, машинально проводивший взглядом патрулей, повернулся в ту сторону, откуда они пришли, и увидел, как из-за поворота выскользнули Артист и Док. Его рука, державшая рукоять настороженно взведенного АКМ, сжалась, его губы чуть округлились, набирая воздух для возгласа... Это было последнее движение в его жизни, потому что в тот же момент Пастух налег на рычаг, бревна перед Боцманом приподнялись и разошлись. Тут же в щель просунулся глушитель на стволе его «каштана». Три пули, выпущенные за 0,18 секунды, разворотили часовому кости между виском и ухом. Двое боевиков, бывшие в этот миг по обе стороны порога, услышали вверху шум раздвигаемых бревен. Они подняли головы и начали задирать стволы своих ПМ. Но в них уже стреляли Артист и Док, которым не нужно было больше обращать внимание на часового.
Боевики еще не успели упасть, а Боцман уже спрыгнул вниз и, распахнув дверь, бросился через проходную комнату внутрь, к диспетчерской. Благодаря плану и уточнениям Мухи он ориентировался в подземелье так, точно прослужил тут не один месяц. Внутри все оставалось по-прежнему: сработала психология тюремщиков, которые чисто формально заботятся об обороне, уделяя основное внимание предотвращению побега.
Когда Боцман ворвался на центральный пост, диспетчер, успокоенный благополучно окончившейся проверкой, возился в выдвинутом ящике письменного стола. Он доставал журнал, чтобы записать в отчет о дежурстве известие о преждевременно проснувшихся кротах.
Грохота башмаков Боцмана он почти не слышал из-за больших закрывавших уши наушников. Да и то, что слышал, мог бы принять за шаги возвращавшихся патрулей. Но чутье служаки сработало — когда Боцман миновал порог, диспетчер настороженно повернулся к нему. Ему хватило секунды, чтобы понять, что случилось, и потянуться к пистолету на поясе.
Но иногда секунда — это слишком долго.
Боцман на бегу перехватил «каштан» за глушитель и теперь, как дубиной, дотянулся им до лба охранника. Удар получился так силен, что того отбросило, и он упал на пол вместе с вращающимся креслом.
«Вот что его подкузьмило, — машинально отметил Боцман. — Кресло. Был бы стул, он бы успел достать ствол. А так подлокотники помешали. Цена комфорта».
Боцман только успел убедиться, что оглоушенный охранник жив, как появился Пастух. Он оставил возле Боцмана кофр с электронными прибамбасами, а сам поспешил дальше — в глубь подземелья. Тут же появился и Артист.
— Живой? — спросил он, видя расстроенную гримасу Боцмана.
— Живой-то живой, — ответил тот огорченно, снимая с беспамятного охранника микрофон и наушники. — Но этот тоже упертый. Вряд ли он нам что-нибудь скажет. Да и врезал я ему вроде сильновато.
— Что-нибудь скажет, — не согласился Док, появляясь из-за спины Артиста и доставая из аптечки какие-то тюбики. — Все всегда что-нибудь да говорят.
— Нам всего-то и нужно узнать, как они вызывают сюда Гнома, — утешил Боцмана Артист. — Как тут вообще и где Муха...
— Вроде бы тихо. — Сев на место диспетчера, Боцман осваивал переключатели и всматривался в черно-белые мониторы над пультом. — Одни спят, другие службу несут. Мухи нигде не видно. Ну если они и его зомбировали...
— Тихо, Боцман, тихо, — возясь со связанным языком, урезонивал его Док. Он знал, что после схватки легкий треп — лучшая разрядка. К тому же он четче, чем друзья, понимал суть экспериментов Гнома-Полянкина и не испытывал мистического страха перед угрозой корректировки личности. — Каким бы ни было внушение, но если сам «внушатель» — Гном — будет у нас, мы все сможем выправить. Все выправим. Что бы ни случилось с Мухой, Гном для нас сейчас — самый нужный человек. И вообще: не забывайте лозунг французской революции.
— Это который «Свобода! Равенство! Братство!»? — уточнил Артист.
— Нет. — Сделав «языку» укол. Док легонько похлопал его по щекам. — Тот, который: «Граждане! Встретив что-нибудь непонятное, будьте особенно осторожны. Это может быть произведением искусства!»
— Ишь... — помотал головой Артист. — А как те три «произведения» — в проходе? Может, им чем помочь?
— Там все, им уже не поможешь, — с рассеянной философичностью отозвался Док. — Они свое отжили. Не повезло.
— А ты говоришь «искусство», — непримиримо, но уже отойдя от азарта и ажиотажа боя, отозвался Боцман. — Худо дело, ребята. Я все ихние помещения просмотрел. Нету здесь Мухи.
— Может, где он, там просто телекамеры нет? — с надеждой спросил Артист.
Остальные, включая вернувшегося Пастуха, промолчали.
Нечего им было сказать. Артист не хуже их знал: тот, кто хоть однажды видел Муху в деле, уже ни за что из поля зрения его не выпустит. Тем более там, откуда он уже однажды удрал.
Глава двадцать третья. Полный облом
...В лазурном море, оставляя белые пенистые следы, петляли скутера, кудрявые от вечнозеленой растительности скалы коричневыми щербатыми откосами нависали над пляжем, а Принцесса стояла на просторном балконе, переполняя своей роскошью строгий купальник...
* * *Когда я пришел в себя, все вокруг дребезжало и грохотало. Меня будто засунули в железную бочку и расстреливали из гранатомета. Я даже не слышал дроби, которую выбивали мои зубы. Руки мои были стянуты за спиной, а ног я не чувствовал вовсе. Только боль в голове и жуткий холод...
Как понял гораздо позже, я лежал на поддоне в транспортном самолете.
Естественно, он летел. Куда-то. Он летел очень долго, так что я успел несколько раз качнуться на зыбких качелях бреда, то забываясь, то снова приходя в себя, пока не очнулся окончательно. Сил дрожать уже не было. Я просто пребывал внутри замерзшего до полной потери чувствительности тела и думал о том мужике, которого оставил тысячу лет назад промерзать в багажнике. «Боже, — думал я, — дай мне выпутаться сейчас, и я больше никогда не вляпаюсь! Я никогда никого больше и пальцем не трону. Вот расплачусь с теми, кто меня мучает, и больше — никогда!.. А все-таки слишком уж пунктуально Ты воздаешь за каждую мою оплошность — не может быть, чтобы он тогда лежал в багажнике целые сутки!»
Через вечность с небольшим мое тело-скафандр кто-то поднял, несмотря на то что тряска и грохот вокруг продолжались, и куда-то потащил. Очень было страшно: если моим плечом или ногой заденут какой-нибудь косяк, то моя конечность с хрустом отвалится, и через образовавшуюся дыру холод доберется до мозга, в котором еще пульсировала теплая боль, эта слабо скулящая боль — единственное, что осталось от меня живого. Несущие говорили между собой до того невнятно, что я не мог понять ни слова. Впрочем, не очень и пытался.
Больше внимания приходилось уделять дыханию: ребра так задубели, что грудная клетка совершенно перестала раздвигаться. Воздух приходилось откусывать по чуть-чуть, обсасывать, а потом осторожно глотать. Но тряска и грохот, кажется, кончились совсем.
Потом вдруг вокруг стало светло и тепло, боль осталась, но сделалась упоительно живой.
«Боже, — думал я, смакуя эту боль, — спасибо за то, что Ты наконец-то сделал меня мазохистом!»
Потом меня пытались отвлечь от этого удовольствия, тормоша, раздевая и протирая какой-то едкой и вонючей гадостью. Потом мне вливали в глотку не менее противное обжигающее пойло. Но я совершенно не сопротивлялся, понимая, что не заслуживаю больше права на сопротивление. Я обязан терпеть все, к чему Он меня приговорил. И видимо, я правильно себя вел, потому что вскоре мне было даровано сладкое и нежное покачивание в лазурных водах рядом с манящим, но недосягаемым телом Принцессы.