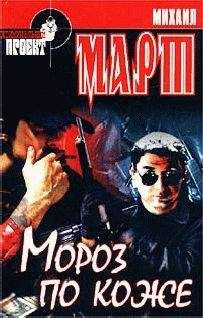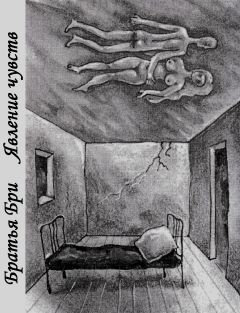Александр Проханов - «Контрас» на глиняных ногах
Выложенный светлым кафелем приемный покой. Какой-то медицинский плакатик. Какой-то сосуд на столе. На кушетке, у стены, под прозрачной, наброшенной во всю длину пеленой, с открытым, очень белым лицом, голой шеей, резкой, недвижной линией подбородка, носа и лба лежала она. Войдя, он натолкнулся, ударился об это лицо. Об изображение лица. На незримую отталкивающую силу, не пускавшую его, остановившую на пороге.
Волосы ее казались длиннее, чем при жизни, рассыпались и как бы слились с головой. Глаза под веками, чуть приоткрытые, таинственно и слабо мерцали, но без дрожащих живых переливов, без откликавшихся на жизнь отражений. Кисть руки беспомощно выглядывала из-под прозрачного покрова, и на пальце, очень белом, мраморном, желтело пятнышко йода. Поражаясь своей окаменелой недвижности, пугаясь пока что не смерти, а своего непонимания смерти, он тянулся к ней, мысленно проносил ладони над ее лицом, прикрывал от света ее глаза, произносил не вслух, а немой, испуганной мыслью ее имя:
– Валя…
Она идет к нему по песку, быстро пробегает, обжигается, оставляя маленькие жаркие лунки. Он стоит в колыхании прибоя, чувствует грудью стеклянные вихри света, что летят от нее. Целует ее всю, еще удаленную, бегущую – стройные ноги, плещущие волосы, упругую под купальником грудь, еще не проступившую сквозь мокрую ткань твердым соском, все горячее солнечное пространство, из которого она появилась и которое несет ему.
– Валя…
Утром, в сумерках, перед поездкой в Сан-Педро, подымалась из его сонных, сладких объятий, и он не выпускал ее, вел ладонью по гибкой горячей спине, под волосы, на теплый затылок. Нежно, настойчиво отстранялась, опуская на пол босую ногу, и он успел разглядеть и сладостно запомнил ее округлое бедро, золотистый клинышек лобка, колыхнувшуюся грудь. И потом на дороге, удаляясь от зеленой горы, все хранил в себе это сладостное, певучее воспоминание.
– Валя…
Та качалка в ночном саду, светляки, упавшая с ветки зеленоватая теплая капля. Он целует ее плечо, хрупкую ключицу, стучащее близкое сердце, и она опрокидывается в невесомость, увлекая его в головокружительное падение вокруг тончайшей, пронизывающей мироздание оси.
– Валя…
Звук произнесенного имени, уже не существующего, отнятого у нее, лежащей под этой прозрачной негнущейся оболочкой. Беззащитная открытая шея, которая поразила его в первый раз в самолете своей близкой чудесной доступностью. Пятнышко йода на мраморном пальце, уже ненужное, нанесенное в той, другой, прекращенной жизни. И жестокий банный кафель на больничной стене. И бумажный медицинский плакатик. И его собственная неподвижность и окаменелость. Все это сложилось вдруг в страстную, толкающую, сквозную боль, прошибающую в душе какой-то тромб. Горячий, громкий, жалобный вопль вырвался из него, превращаясь в слепое, всепоглощающее горе. Он кинулся обнимать отпавшую светлую прядь, укладывая, умещая ее около головы, целуя много раз ее остывшую, но еще чуть теплую руку, пятнышко йода, белый, поднятый вверх подбородок, щеки, губы, волосы, опять рассыпая и роняя их на кушетку.
– Валя, Валечка!.. Так вот как мы с тобой повстречались!.. Вот как мы с тобой повидались!..
Обнимал ее, бился над ней. И все остальные стояли поодаль, не мешали ему. Слушали рыдания на непонятном, захлебывающемся языке.
Они подъехали к самолету вслед за белым санитарным «Фордом». Белосельцев, словно желая запомнить, смотрел на два пулевых отверстия в дверце. Все тот же двухмоторный пятнистый «Локхид», на котором прилетели сюда, стоял на бетоне. Группа солдат, усталая, ссутулив плечи, сидела на солнцепеке, на красноватой земле, среди сложенных автоматов и касок. Субкоманданте Гонсалес и Джонсон были уже здесь.
– Я выражаю вам соболезнование, – сказал субкоманданте, обнажая лысеющую рыжеватую голову, делая короткий кивок. – Это большое горе для всех… Поверьте, это наше общее горе…
Подошел пилот, тоже знакомый, щеголеватый, с темной эспаньолкой и курчавыми бачками. Белосельцев вспомил, что при первой встрече окрестил его «доном». Но это было очень давно, и было странно видеть неизменившийся облик пилота. Другой летчик длинной красной отверткой что-то подкручивал в самолетном днище. И это тоже казалось повторением чего-то давнишне-знакомого.
– Можно лететь, – сказал пилот.
– Сажайте солдат, – приказал субкоманданте.
Солдаты быстро молча встали, понесли свои тюки и оружие в самолет. Четверо по оклику офицера отделились от остальных, приблизились к «Форду» и вытянули из машины носилки. Осторожно, пятясь, перехватывая рукояти, повлекли к самолету. Белосельцев видел, как что-то бугрится, колышется на носилках, прикрытое плотным брезентом.
– Поверьте, мы скорбим вместе с вами, – повторил субкоманданте. – Это жертва, которую вы принесли на алтарь нашей борьбы. Понимаю, эта мысль не может быть утешением, но я хочу, чтобы вы знали – мы в полной мере разделяем ваше горе.
Носилки поднимали в самолет. Сверху, помогая, тянулись солдаты.
Белосельцев пожал руку Джонсону, на мгновение коснулся губами щеки Росалии. Сесар нес его дорожный баул с фотокамерой, отснятыми кассетами. По лесенке, махнув жене, поднялся на борт. Сел в хвосте у самых носилок, огромный, сутулый, печальный. Белосельцев устроился так, что брезент носилок касался его ног, а баул поставил на алюминиевую лавку.
Самолет загудел, побежал, оттолкнулся, устремился вперед. Рывок машины повалил на бок баул, колыхнул зеленое, сваленное в груду железо. Ставя на место баул, Белосельцев увидел, что этим зеленым железом были исцарапанные трубы гранатометов. На них прилипла красноватая глина – метка сельвы, над которой пролетал самолет. Осторожно, как бы мимолетно, он коснулся плотной зеленой материи, покрывавшей носилки.
В иллюминаторе, слегка затуманенные, тянулись ржаво-красные болота, мелькали озера и речки. И он думал, что она погибла из-за него. Он, живой, глядит на эту рыжую лесную протоку, страдает, тоскует, имеет возможность страдать, тосковать, а она умерла. Он не был с ней в момент ее смерти, в секунду выстрела. Не заслонил ее, не погнал что есть мочи машину, не ударил в ту безвестную стреляющую обочину из «галиля», не швырнул в те заросли гранату. А боялся лишь за себя, сберегал лишь себя. Страшился – как бы не рвануло взрывом из-под колес. Надеялся на охрану в передних машинах, на свою удачу. И ни разу не подумал, что ей угрожает опасность, не испугался за нее. Призывал ее в свои слабые больные минуты, спасался мыслью о ней. И его сберегла не зеленая двухвостая «рама», не автоматы охраны, не бешеная скорость езды, а это она своим светом, любовью отвела от него беду. Отвлекла беду на себя. Приняла его пулю. Пуля, искавшая его среди сельвы, заблудилась, сбилась с пути, миновала его сердце, отыскала другое – ее.
Мерно дрожала обшивка. По лицам солдат скользили тени и отраженное от разливов и топей солнце. Он подумал, что здесь, в никарагуанском военном транспорте, на санитарных носилках, накрытых брезентом, уже несуществующее, умертвленное, отсеченное от него навсегда, присутствует его убитое будущее. Зимняя деревня в Карелии, заметенная по самые крыши с сияющей новогодней звездой. И цветущая голубая гора, на которой она стоит в розовом сарафане, смотрит в озерный разлив, в котором плывет его лодка. И то утро, когда он проснется от счастья, и она, млечная, домашняя, в раскрытой ночной рубахе, подносит к полной груди их кричащего сына. Все его дети и внуки, весь стремящийся в грядущее род, его надежды на полноту и цветение были здесь, на этих носилках, под этим чехлом из брезента, окруженные гранатометами и измызганной амуницией.
Он вдруг пережил, как бесшумную боль, как взорвавшийся около сердца сосуд – какой же стишок она для него сочинила, не успела ему прочитать? Все стихи, которые он станет читать, все рифмы, которые будут его волновать, не откроют ее милой выдумки. Неужели его поездка сюда, перелет через материки, океаны были только затем, чтобы убили его милую? И истина, которую он здесь добыл, заключается в том, что ее убили? Что он летит сейчас в самолете и его любимая, неживая, покоится на этих страшных носилках?
И ослепительное прозрение, как удар небесного электричества, распахнувшего тьму. Она летела сюда, чтобы ее здесь убили. Чтобы смертью своей снять с него наваждение. Остановить его падение во тьму. Помочь одолеть колдовские чары, которым подвергся на кровле храма, искусился на царства и славу, на земное владычество. Пренебрег Райским Садом, над которым расцветали волшебные планеты и луны, и Чудесная Дева, явившись на вершине горы, звала их с собой в перламутровую ночную ладью.
Это откровение ошеломило его. Дало беспощадное, неотмолимое объяснение всей его жизни.
И следом безумная, похожая на облегчение мысль. Да нет же, все это обман и ошибка. Она жива, они плывут в океане, видят сломленное бурей сочное зеленое дерево, она хватает мокрой блестящей рукой пахучие ветки, он ныряет под листья, видит шатер голубых лучей. Ведь где-то плывет в океане то дерево, и можно его найти, нырнуть, и все опять повторится.