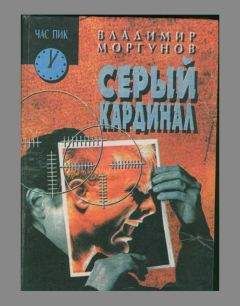Валериан Скворцов - Укради у мертвого смерть
Джефри погасил экран и набрал сингапурский номер.
— Джефри? — спросил Клео Сурапато.
— Поздравляю, — сказал Джефри.
— Ха-ха-ха... О, прохлада на склонах горы Фушань! Если бы мог, принес на веере в город, как красавицу на руках...
Вот уж действительно, подумал Джефри, тайна каждой национальности не в кухне или одежде, а в манере понимать вещи. Китаец Клео никогда не лгал, но ему бы и в голову не пришло сказать правду. Прочитанная строка древних стихов была произнесена как раз, чтобы ничего не сказать.
Но только ради этого Клео не разыскивал бы Джефри во Франкфурте. Следовало сосредоточиться.
— Как погода? Снег? — спросил Клео.
— Одного снеговика слепить определенно хватит...
На условном жаргоне так обозначались дипломники Рурского университета.
— Это лучше, чем искать там, где солнце светит за тучами.
Солнцем за тучами называлась Япония.
В трубке затянулось молчание. Клео откашлялся.
— Я еще хотел сказать... В Москве умер Васильев. Его помощник Себастьяни отстранен от серьезных дел. Отправляют на отсидку к нам в небольшой должности, в их торговом представительстве. У меня телекс от московского агента, который вертелся в министерстве на Смоленской и приметил объявление о панихиде. Догадался расспросить и о втором... Он с дурным характером... Ты меня понял, Джефри?
Странные, непредсказуемые и трусливые в денежных делах русские, подумал Джефри. Если Васильев и положил какой лишний чек в бумажник, что плохого? Но, кажется, им запрещено оставлять наследство... Странные моральные ценности. Зачем занимать в таком случае ключевые посты? Конфуцианское представление об идеальном чиновнике.
— Фамилия этого человека произносится Севастьянов, — сказал Джефри в трубку.
3
— Севастьянов! Почему вы решили, что выбранное поприще — ваше призвание?
Вопрос задавали в приемной комиссии финансового института преподаватели, читавшие лекции по обществоведению. Профессионалы такое спрашивать стеснялись.
Но на этом вопросе он почти засыпался. Что вас побудило стать паровозным машинистом?
В 1947 году отец Севастьянова, уволенный из армии по болезни, преподал первый урок отношения к деньгам. Мать нахваливала Севастьянова, который на удивление соседям приносил ей в больницу мед, масло, белый хлеб и однажды шоколадку. Цены в коммерческих магазинах и на рынке, где только и можно все это доставать, были трехзначные. Окрыленный похвалой, Севастьянов вытащил из-под матраса, на котором спала мать, шесть перетянутых пачек, всего на сумму шестьдесят восемь тысяч рублей, и в придачу три нераспечатанных колоды трофейных, как тогда говорили про все иностранное, игральных карт, выменянных у пленных венгров. Отец, забывший от удивления снять второй сапог, выпорол Севастьянова узким, вдевавшимся в галифе ремнем. В школе пришлось только делать вид, что сидит за партой. Все знали, что Севастьянов — поротый. Но никто не посмел смеяться. Из-за отца. Отец вытащил кучу денег вместе с картами на балкон и, полив керосином, сжег.
А деньги не пришли к Севастьянову легко. Поднаторев в поенных пионерских играх, они держали на своей окраине под контролем кассы кинотеатров «Родина», «Победа» и клуба «Строитель», а также входы в две бани. Особенно большой куш взяли, когда в «Строителе» пустили «Дети капитана Гранта», У кассирши перекупили билетные книжки. И перепродали по собственной цене. Распарившимся после бани подсовывали мороженое — снег, облитый сахарином. За клубом в зарослях крапивы вытоптали площадку, где крутили рулетку. Играли даже считавшиеся «в законе» блатные, которые при проигрышах с ними не связывались. Десятилетние «севастьянчики», как их называли, случись конфликт, дрались беспощадно, брали числом и сплоченностью.
Участковый говорил про эти дела Михаилу Никитичу. Но бывший матрос считал, что — пусть. Ведь не воровали. А все, что можно взять силой и хитростью, того и достойно. И денег становилось больше. Сила же их предстала волшебной, когда мать увезли на операцию из-за воспаления желчного пузыря от жмыха, который она ела.
Два месяца никто не говорил ему: «Надень то да сделай это». Никто не напоминал про уроки. Мать плакала, когда он приносил мед и масло, стеснялась есть в палате. Он сидел рядом, пока она, как говорила про себя, питалась, словно сторожил от других. Если спрашивала, где взял, отвечал: «Алямс помог».
Алямс был фронтовой друг отца. Он держал рулетку, на которой толкавшиеся по базару мужики ставили мятые красные тридцатки. Если в «банке» ничего не оставалось, Алямс объявлял «великий хапок», то есть просто загребал брошенные на новый кон деньги в карман. Это считалось справедливым. Алямса не брали во время облав из-за нашивки за тяжелое ранение и орден Красной Звезды. Ноги у него оторвало миной. Он ездил в ящике, поставленном на четыре шарикоподшипника, отталкиваясь огромными кулаками. Какая-то бабка, сослепу приняв его за нищего, бросила в пилотку папироску «Северная пальмира», самую дорогую, какие курили на базаре, и Алямс, тогда еще Коля, стушевавшись, сказал:
— Алямс! Копеечка!
Так прилепилось прозвище.
Алямс действительно ссужал ему деньги. Отдавать велел из общих, спросив разрешения у ребят. Он же приучил читать книжки. Не учебники, а про любовь. Первая книга, прочитанная Севастьяновым, была «Княжна Мэри», купленная в киоске. Про Печорина в предисловии говорилось, что он — лишний человек. Звучало обидно... Но обсуждать любимого героя можно было только с Алямсом, который перед войной проходил книжку в школе.
Михаил Никитич похвалил отца, когда он пришел справиться об успехах сына. Не потому, что они действительно его интересовали, а из-за терзавшей собственной неспособности воспитать достойного сына партии и родины.
— Пори не пори, — рассуждал бывший матрос, — бесполезно. По себе знаем. Сила боевого примера... Ну, то есть примера, вообще примера. Столько денег! Р-р-раз и — нету!
Когда умер товарищ Сталин, «севастьянчики», ставшие восьмиклассниками, взяли власть в школе. Михаил Никитич отпер в военном кабинете и раздал винтовки с просверленными затворами, но со штыками, поскольку считал обстановку крайне опасной. Враги народа, как ожидалось, готовились выйти из подполья, усиливали происки. Следовало сжать зубы и кулаки, заглушить рыданья. Написали лозунг: «Смерть за смерть империалистам, а также врачам- вредителям!» Красное полотно растягивали в мороз над входомв школу, на углах которой топтались озлобленные ужасом великой утраты часовые со штыками наперевес. Из-за того, что каждый боеспособный был на счету, на похороны отрядили тех, с кем в общем-то не очень считались. Караулили школу пять дней. Ополчение разогнали родители.
Потом пришла первая любовь. Старая жизнь как провалилась... Где все те люди?
А память о силе денег осталась.
На институтской практике, отправленный в числе немногих отличников в Пекин, он ощутил, как хороша выбранная профессия. Революции в Китае исполнилось тогда восемь лет. Не все, кого она застала, как принято говорить, врасплох, торопились убраться. На руках у некоторых оставались ценные бумаги — кредитные письма, акции, чеки, и они приходили в торгпредство на Ванфуцзине, в бывшее здание Индокитайского банка, где в центре курзала стоял огромный биллиард, возле которого тоже проходили практику. Предлагали к продаже платежные свидетельства ведущих банков мира.
Бумагам порою цены не имелось. Их следовало хватать, как говорил на производственных совещаниях руководитель практики Константин Петрович Семенов, в жену которого Севастьянов тайно влюбился. Торгпред возражал. Он отмечал, что следует помнить о микробе буржуазного разложения, и в период, когда империализм вступает в загнивающую стадию, а кругом торжествуют идеалы социализма и национально-демократического пробуждения, брать такие бумаги адекватно покупке навоза по цене бриллиантов.
Семенов не спорил. Как и Васильев много лет спустя. Но однажды купил именно бриллиант по цене навоза, а не наоборот. В переулке неподалеку от Запретного города, в нетопленой ювелирной лавке, промерзшей под студеным декабрьским ветром с Гоби. На втором этаже, в жилой половине, сухой старик в меховом халате и стеганых штанах, разворошив одежду в сундуке, вытянул лакированную коробочку. Семенов смотрел на камень так, будто собирался немедленно прикончить всех вокруг, не исключая китайца с пергаментным лицом и Севастьянова. Потом Севастьянов встречал бухгалтеров, для которых смертельной пыткой оборачивался любой посторонний взгляд на наличность. Будто от этого она уменьшится.
Семенов кивнул Севастьянову, чтобы принес из машины два чемодана тогдашних китайских денег, которые торгпредство не знало куда пристроить... За бриллиант пришла благодарность из Москвы.
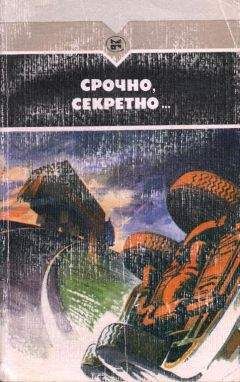
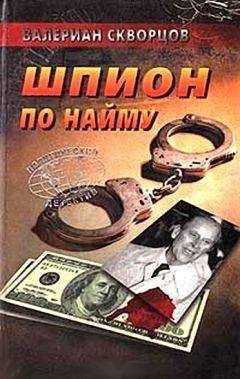
![Росс Томас - Смерть в Сингапуре [сборник]](/uploads/posts/books/13740/13740.jpg)