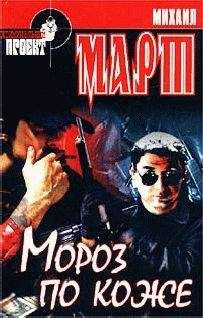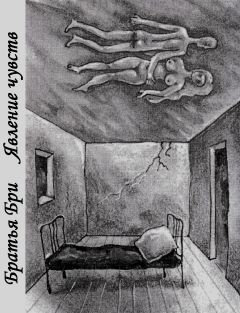Александр Проханов - «Контрас» на глиняных ногах
– Здесь нет никаких разведчиков. Там, – он кивнул на отдаленные столики, – сидят буржуа и тайно пьют за поражение Сандинистского Фронта. А здесь, – он подвинул к ней хрустальный бокал, в котором черное, как бычья кровь, вино таило в глубине крохотную рубиновую искру, – сидят свободные люди, скинувшие ветхие одежды, облачившие себя в восхитительный наряд. – Он прикоснулся к ее плечу, выступавшему из кружевной бахромы алого платья, вновь испытав головокружительную нежность и волнение.
– Загадай, чего ты хочешь? – Она подняла бокал. – Чем станешь заниматься в своей новой жизни, когда перелетим океан, а потом уедем из Москвы?
– Попробую загадать. Когда мы поселимся с тобой в деревне, в какой-нибудь чудесной глуши и я буду спокоен за то, что печь в нашем доме будет всегда горяча, на нашем столе всегда будет снедь, я постараюсь соорудить себе в уголке маленький тесный столик и начну читать. Все великие русские книги, которые не успел открыть или пробежал их бегло, наспех, или по принуждению школьных учителей и университетских профессоров. Прочитаю заново «Повесть временных лет» и «Слово о полку Игореве», погружаясь в их волшебный, животворящий язык, сладкий и густой, как липовый мед, от которого бог весть откуда берутся богатырские силы. Прочитаю Карамзина «Историю государства Российского», напоминающую крепость с башнями, стенами и бойницами, среди которых стоят дивные терема, белоснежные храмы, ажурные, с золотыми часами и звонами колокольни. Прочитаю Достоевского, похожего на вулкан, в котором среди огней и громов сражаются Черный Ангел и Белый, рвут один у другого человеческую душу, и она мечется среди ударов и молний. Прочитаю всю великую русскую поэзию от Пушкина, Лермонтова до Есенина, Ахматовой, Маяковского, где в божественной музыке языка обнаружится истинная русская вера, русская религия, русская мечта о бессмертии.
Вот этому я бы хотел посвятить долгие зимние вечера, подкручивая фитиль в керосиновой лампе, раскрывая бунинские «Темные аллеи», медленно пробуя на вкус изумительную густую сладость: «Вещи и дела, аще ненаписаннии бывают, тьмою покрываются и гробу забвения предаются. Написанние же, яко одушевленние».
– А можно, мы будем вместе читать, вслух? Сначала – ты, а я стану подкручивать в лампе фитиль. А потом – я, а ты мне поближе подвинешь закопченную красную лампу.
Он соглашался. Их зимняя изба, окруженная вьюгами, с шуршащим о стены бурьяном. Над печью от теплого воздуха колышется голубая беличья шкурка. Она с ногами сидит на кровати, закутавшись в теплую шаль, смотрит, как светлеет его лицо в золотистом одуванчике света, а он читает «Хаджи Мурата», как на последней предсмертной странице прекрасно и страшно поют соловьи.
– А еще чем станешь ты заниматься?
– Когда прочитаю все великие русские книги, когда венцы в нашей избе и смуглые потолочные матицы, и темные половицы станут звонкие и певучие от всех прочитанных вслух страниц, я, коли отпущены мне будут силы, если даровано мне будет долголетие, стану писать мою книгу. Одну-единственную, на которую буду подвигнут.
– О чем она будет?
– Она будет о разведчике. Не о том, кто пробирается в тыл врага и высматривает, где батареи и танки. Не о том, кто, притворяясь светским львом, проникает в сейфы министров и выкрадывает секретные планы. Не о том, который, как наш метрдотель, зорко следит за своими посетителями, подслушивает их застольные разговоры и пьяные откровения. Она будет о разведчике, кого посылает на задание Господь Бог, отпуская в мир юным наивным отроком, чтобы тот раздобыл секреты истинной жизни, тайны совершенного бытия, сокровенные рецепты бессмертия. Обошел все народы и земли, испытал все искушения, увидел все чудеса земные, все беды и страсти вселенские. Обойдя все пределы, он снова вернется к Творцу, принесет на ладонях добытые в жизни крупицы. Господь встретит его на пороге в свой небесный чертог, заглянет в ладони и решит, какие сведения доставил разведчик. Быть может, исполненные лжи и обмана, ибо вместо разведки тот провел свою жизнь в наслаждениях, утехах и лени. Или неполное, искаженное знание, ибо, исследуя жизнь, взгляд его был замутнен ненавистью, страстью, прельщением. Или же на ладонях прожившего век старика, седого и немощного, в морщинах страданий, окажется маковое зернышко драгоценной истины. И тогда Господь обнимет его, примет в небесный чертог, поведет по чистейшему белому снегу, среди райских разноцветных деревьев, которые ты мне показала.
– Выпьем за это, мой милый…
Звон от бокалов был тонкий, словно упала сосулька. Он смотрел, как дрожит у ее губ рубиновая искра, и губы ее, когда отняла бокал, чуть почернели от винной сладости.
Появился официант, торжественный, ступая на носки, словно тореадор, готовый встретить быка. Поставил перед ними две большие фарфоровые тарелки. Разложил ножи и вилки. Водрузил стеклянный подносик с подливами, специями, соевым соком, красным кетчупом, зернами граната, кирпично-рыжим перцем, золотистым уксусом, лимонными дольками.
– Еще несколько минут, сеньор, – таинственно улыбнулся он Белосельцеву и исчез туда, где слышались треск и шипение и откуда неслись горячие волны дымных, дразнящих запахов.
– Придется тебе и это описать в твоей книге, – засмеялась она. – На ладонях, которые ты протянешь Творцу, среди маковых зернышек будет и этот бык…
Она не успела закончить. В ресторанную залу, сквозь просторную арку в стене, великолепной вереницей входили официанты. Молодые тореадоры в облегающих, усыпанных бисером и блестками безрукавках, в белых, раскрытых на груди рубахах с малиновыми бантами, в узких панталонах с выпуклыми упругими икрами. Они выступали, словно в танце, приподнимаясь на носках. В одной руке – длинная рапира, на которой розовел дымящийся, пронзенный ком мяса. В другой руке – зеркальный, отточенный кинжал, льющий с лезвия голубые потоки света. Дойдя до середины, тореадоры стали расходиться к отдельным столикам, оставляя в воздухе ароматные струйки дыма.
Официант подошел к их столику:
– Вашему вниманию правая нижняя часть загривка…
Нацелил в фарфоровую тарелку отточенную рапиру, словно искал у невидимого рогатого зверя уязвимое место. Звонко вонзил ее в белый фарфор, будто ткнул быку под лопатку. Перед глазами Белосельцева оказался жареный, с розовым нежным срезом кусок загривка. Близко, страшно сверкнуло лезвие ножа, бесшумно отслоило от грубого куска нежный, пропитанный соком лепесток, который чуть изогнулся и упал на тарелку. Официант торжествующе убедился, что Белосельцев поражен. Резко воздел руку с шампуром. Перенес его к соседней тарелке, громко звякнул острием по фарфору. Сверкнув ножом, уложил на белую фарфоровую гладь нежный, трепетный лепесток, замечая по восхищенному виду Валентины, что его боевой пируэт произвел впечатление. Удалился, приподнимаясь на цыпочки, увлекая за собой других тореадоров, шествоваших так, словно под ногами у них была арена и звучал марш из «Кармен».
– Боже мой, – ахнула Валентина. – Да это просто коррида!.. Отважный юноша так рисковал!..
– Наверняка он знаком с гравюрами Гойи… Жаль, что у меня нет фотокамеры…
Они ели тающее мясо, от которого начинали сладко ныть слизистые оболочки и закатывались от наслаждения глаза.
– Это и есть искушение, о котором ты говорил… Это и есть греховное наслаждение, которое удаляет тебя от истины….
– Истина в быке, – слабо возражал Белосельцев. Резал мясо, выдавливая на тарелку капельки золотистого сока. Цеплял вилкой розовые ломти, отправлял в рот, запивая красным вином.
Их не оставили наедине с опустевшими мгновенно тарелками. Сквозь арку двинулась блистательная кавалькада, раздувая пышные шелковые рукава, картинно выворачивая сильные округлые ноги, неся в руках жреческие символы – сверкающие молниями тесаки, заостренные дротики с пронзенным мясом жертвенного тельца.
– Вашему вниманию – грудинка, левая нижняя часть, – провозгласил официант, словно произнес ритуальное заклинание. Вонзил перед Белосельцевым шампур, цокнул по фарфору. Проблистал ножом, срезая с коричневого, еще пузырящегося куска смуглый завиток. Чуть повернул зеркальную сталь, роняя завиток на тарелку. То же самое он совершил перед сияющими глазами Валентины, которая, казалось, готова была наградить его аплодисментами. Было видно, что юноша польщен ее вниманием.
– Это совсем иной вкус, – говорила она, дегустируя мясо, осторожно касаясь его губами, словно прислушиваясь к едва различимому звуку, который соответствовал вкусовым нотам и гаммам. – В одном и том же быке – такое разнообразие вкусов.
– На этом некоторые лишаются расудка. Такое сладострастное поедание монахи называют гортанобесием.
– А мы этого беса слегка поперчим… Да еще капнем лимонного сока… Да побрызгаем гранатовым соусом…
В зале кругом слышались звяканье, возгласы, бульканье падающего в бокалы вина. Пиршество превращалось в мистерию поедания быка, которое символизировало бесконечность составных частей Вселенной. Расчлененная на части, пропущенная сквозь огонь, пронзенная ритуальным клинком, эта Вселенная принимала вид отсеченной бычьей губы. Плотного и шершавого языка. Коричневой, нежно хрустящей кожи. Гладкого, похожего на булыжник сердца. Белого, мягко-пахучего семенника. Медно-красной мякоти на синеватом реберном хряще. Душно-приторной, сладкой печени. Студенистого желтоватого костного мозга. Красного, наполненного жаркой кровью окорока. И когда утомленный жрец, в забрызганной жиром рубахе, с блестящей от пота грудью, в изнеможении, многократно поменяв перед ними тарелки, выкатил на стерильный фарфор выпученный бычий глаз, окаменело-черный, окруженный твердым, как электрический изолятор, белком, Белосельцев, моля о пощаде, поднял руки. Они с Валентиной жадно выпили по полному бокалу вина, расплатились и вышли. Видели, как мясники в клеенчатых фартуках окружили деревянный верстак, на котором высился полуобглоданный рогатый скелет быка, похожий на недостроенную лодку с ребрами торчащих шпангоутов.