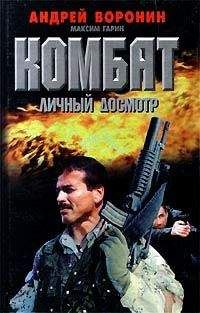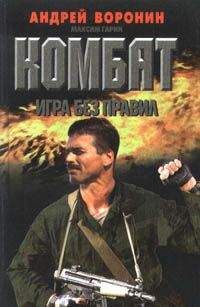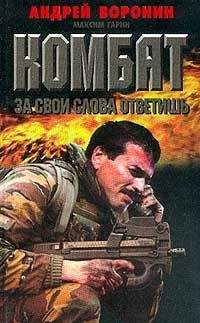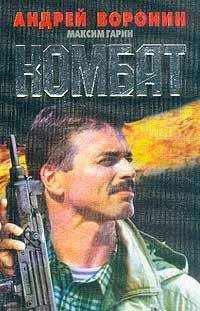Андрей Воронин - Закон против тебя
Когда они свернули на узкую подъездную дорожку, которая вела во двор дома, где жил Андрей, из-за угла внезапно с диким ревом выскочил огромный «лендровер-дискавери» и, пьяно виляя, устремился им навстречу. Коротко выругавшись, Борис Иванович крутанул руль, но было поздно: хромированная дуга, которой был усилен высоко посаженный бампер «лендровера», с отвратительным хрустом вломилась в радиатор его машины.
Противно заскрежетал сминаемый в гармошку металл, исковерканный капот встал дыбом, закрывая обзор, с жалобным звоном брызнул в разные стороны прозрачный пластик разбитых вдребезги фар, и стало тихо. В этой тишине раздавалось только тиканье остывающего мотора да негромкий плеск вытекающей из смятого в лепешку радиатора охлаждающей жидкости, которая, курясь горячим липким паром, струилась по корявому асфальту, омывая колеса.
После короткой паузы лобовое стекло, решив, вероятно, нанести заключительный штрих, медленно, с достоинством отделилось от деформированной рамы и неторопливо вывалилось наружу.
– Приехали, – проинформировал неизвестно кого Подберезский.
– Убью гада, – пообещал Борис Иванович, толчком распахнул заклинившую дверцу и выбрался из машины, заранее занося над головой кулак.
Навстречу ему из кабины «лендровера» выбралось щуплое и носатое лицо кавказской национальности.
Глаза его смотрели в разные стороны, а перегаром от него разило так, что Подберезский удивился, как этому типу удалось отличить рулевое колесо от запаски.
На заднем сиденье «лендровера» обнаружилась насмерть перепуганная молодая женщина с пятилетним ребенком – вероятнее всего, жена «гада», – и Борис Иванович нехотя опустил кулак.
– Слушай, ара, что я наделал, а? – жалобно спросил у Бориса Ивановича «гад» после того, как, немного сфокусировавшись, осмотрел плоды своих трудов. – Совсем поломал, слушай… Извини, дорогой, я не специально. Веришь?
– Надеюсь, – проворчал Борис Иванович. – Дать бы тебе по шее, да ребенка пугать не хочется.
– Зачем по шее, дорогой? – горячо возразил кавказец. – Так разберемся! У моего шурина своя мастерская. Тут недалеко, совсем рядом. За час отремонтирует и денег не возьмет, клянусь!
Борис Иванович вздохнул. Надежда выехать в Йошкар-Олу до полудня испарилась. Собственно, он не сомневался, что ремонт займет не меньше недели.
Жена кавказца вместе с ребенком отправилась домой на такси, Подберезский, помахав на прощание рукой, пошел к себе, а слегка протрезвевший от пережитого потрясения «гад» на буксире поволок изуродованную машину Бориса Ивановича в мастерскую своего шурина.
Вопреки опасениям Комбата, мастерская оказалась просторной и оборудованной всем необходимым. Шурин «гада», грузный пожилой армянин, вникнув в суть дела, не стал тратить времени на хождение вокруг машины, сопровождаемое охами, ахами и сочувственными комментариями. Вместо этого он и четверо его помощников деловито принялись за работу, действуя с молчаливой сосредоточенностью. «Гад», которого снова заметно развезло, некоторое время путался у всех под ногами, подавая советы и пытаясь помогать.
Он два раза упал в смотровую яму, порвав штаны и извозившись в отработанном масле, опрокинул десятилитровую емкость с тосолом и чуть не выжег себе глаза, пытаясь разобраться в устройстве автогена.
Рассвирепевший шурин отобрал у него автоген и зажигалку, налил полстакана водки и с помощью одного из своих коллег оттащил наповал сраженного этой дозой «гада» к его машине, где тот и заснул, свернувшись калачиком на заднем сиденье.
– Ты не обижайся на Гурама, друг, – сказал хозяин мастерской, кивая небритым подбородком в сторону «лендровера». – Не надо было ему за руль садиться, это точно.
– Надираться с утра не надо было, – проворчал Комбат.
– Это не с утра, – поправил армянин, – это с вечера. У его друга сын родился, понимаешь? Они вместе в Чечне воевали, а теперь вот такая радость. Вот он и перебрал немного… Не сердись, ладно?
Комбат пожал плечами: сердиться не было смысла.
Он подумал, что если теория Подберезского насчет светлых и темных полос верна, то они в данный момент находятся в самом центре широкой темной полосы, и даже не темной, а черной как сажа. События шли своим чередом, как попало и вразброд, и все попытки как-то повлиять на их ход немедленно пресекались новыми неприятностями, такими же нелепыми и непредвиденными, как и предыдущие.
Он проболтался в мастерской около часа, наблюдая за ходом ремонта и испытывая непреодолимое желание закурить, а потом поймал за рукав пробегавшего мимо хозяина мастерской и поинтересовался, как скоро тот может закончить ремонт.
Армянин опустил свою ношу на бетон, придерживая капот за помятый верхний край, и испытующе посмотрел на Бориса Ивановича.
– Сильно торопишься, дорогой?
Вместо ответа Борис Иванович резко провел ребром ладони по горлу. Армянин кивнул и задумался.
– Работы много, – сказал он наконец. – Я сейчас даже не знаю сколько. Надо посмотреть. Ты иди, дорогой, отдыхай. Часов в девять позвони, я тебе скажу, когда подъехать. Если будет нужно, мы с ребятами задержимся. Не волнуйся, сделаем все в лучшем виде.
Вот тебе номер, позвони.
– В девять вечера? – зачем-то переспросил Борис Иванович, хотя и без того было ясно, что о девяти утра речь идти не может: стрелки его часов показывали четверть десятого.
– Вечера, дорогой, вечера, – с сочувствием ответил хозяин, подхватил капот и заторопился по своим делам.
Борис Иванович горько вздохнул и покинул мастерскую в самом дурном расположении духа. На улице он поймал такси и поехал на Казанский вокзал, чтобы выяснить, не быстрее ли будет добраться до Йошкар-Олы поездом. Таксист попытался завязать разговор, но быстро смолк, видя, что клиент вовсе не расположен к общению.
На вокзале Комбат очень скоро выяснил, что нужный ему поезд отправился сорок минут назад, а следующий будет только завтра утром, причем билеты на него все до единого распроданы. Бормоча невнятные проклятия, Борис Иванович вышел на Каланчевскую площадь и направился к станции метро, пытаясь понять, что именно заставляет его так нервничать. Он умел терпеливо ждать, да и ожидание, если верить шурину носатого «гада» по имени Гурам, не должно затянуться надолго. Несколько лишних часов не могли существенно повлиять на ход дела. В какой-то степени это было даже удобно: выехав из Москвы поздно вечером и проведя в дороге ночь, они с Подберезским могли прибыть на место рано утром, имея впереди долгий летний день, в течение которого можно было провернуть массу дел и доставить массу неприятностей подполковнику Пискунову и старшему лейтенанту Чудакову, не говоря уже о содержателях склада левой водки на окраине Куяра. Но, несмотря на все эти резонные доводы, что-то не давало Борису Ивановичу покоя, заставляло чувствовать себя так, словно он находился в двух шагах от развязки. Это было знакомое ощущение, которое еще ни разу не подводило Комбата, и, двигаясь по площади в сторону метро, он все время озирался по сторонам, словно ожидая внезапного нападения.
На него так никто и не напал, если не считать нищих, которые, как всегда, шеренгой стояли у входа в метро, выцыганивая у прохожих мелочь. Здесь было несколько инвалидов – как настоящих, так и вызывающих некоторые сомнения, – двое или трое обыкновенных бомжей и даже какая-то совершенно забитая, дышащая на ладан старуха, просившая милостыню под сидевшего в инвалидном кресле на колесиках молодого, сильно изможденного мужчину в камуфляжном комбинезоне. Бледное осунувшееся лицо этого человека, до глаз заросшее колючей бородой, поражало своим остановившимся, совершенно безжизненным, как у закоченевшего трупа, выражением. Глаза напоминали мертвые стеклянные шарики, из уголка губ, неприятно поблескивая в щетине, свисала тонкая нитка слюны. Борис Иванович поспешно отвел глаза от этого лица, показавшегося ему смутно знакомым. Перед ним был либо великий артист, либо человек, раз и навсегда превратившийся в растение.
– Добрые граждане, дорогие россияне, – негромко, с дрожью в голосе нараспев выводила старуха. – Не оставьте в беде инвалида, который проливал за вас свою кровь, сражаясь с чеченскими террористами. Государство забыло о своем герое, когда он стал ему не нужен. Не дайте умереть с голоду солдату, который отдал самое дорогое, чтобы вы могли жить в мире и спокойствии…
В глазах у старухи блестели неподдельные слезы.
Борис Иванович еще раз взглянул на калеку, снова поразившись неуловимому сходству с кем-то очень знакомым, и отдал старухе последнюю крупную купюру, лежавшую в его кошельке. Теперь там осталось только немного мелочи да семьдесят долларов – двадцатка и полтинник – в потайном кармашке. Старуха несколько раз мелко поклонилась, благодаря его, и снова затянула свою жалобную речь.