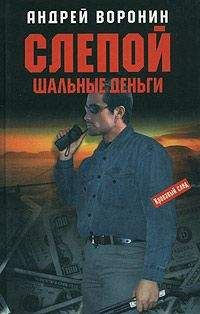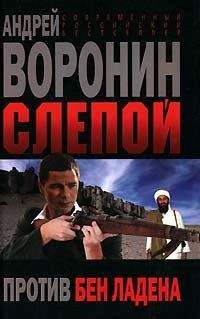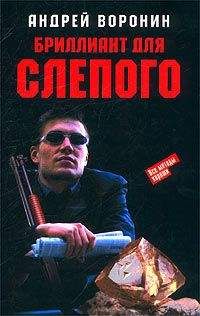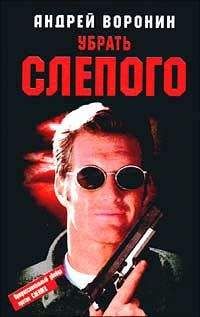Андрей Воронин - Кроссворд для Слепого
— Лучшим в столице.
— Жаль, что я не знал его при жизни.
***
Похороны стоматолога, владельца небольшой клиники для избранных, были невероятно пышными. Цветов, венков нанесли неисчислимое количество. Хоронили Якова Наумовича на Ваганьковском кладбище в престижном месте, на центральной аллее. Хлопотать особо не пришлось, заместитель мэра Москвы был постоянным клиентом Якова Наумовича, и он постарался хоть таким способом отблагодарить покойного. Цветы, венки, скорбные лица, грустные надписи на черных лентах.
«От народного артиста…», «От космонавтов…», «От родственников», «От друзей» — в общем, все было как в лучших домах, как в лучшие времена.
Вдова Якова Наумовича держалась прекрасно, не плакала, удивленное выражение с ее лица исчезло, и сейчас она была просто удручена, убита горем. Она двигалась медленно, говорила тихо, преимущественно повторяя одни и те же слова:
— Спасибо. Я рада, что вы пришли. Яков был бы очень рад вас видеть. Спасибо, спасибо…
На похоронах оказалось сразу несколько священников разных конфессий. Все они были клиентами известного стоматолога, мастера своего дела. Вдова, глядя на пришедших отдать последнюю дань памяти покойного, то и дело думала: «Сколько хороших людей! Сколько друзей было у моего Якова! Как же я теперь без него?».
Потапчук тоже выкроил время проводить в последний путь своего доброго знакомого, почти друга. И что удивило генерала, так это то, что на похоронах стоматолога он увидел Глеба Сиверова. Тот стоял в сторонке в черной рубашке, в черных брюках и темно-серой куртке. Глаза прятал за солнцезащитными очками. Они кивнули друг другу, причем, сделали это так, словно обознались. Никто из присутствующих этого движения не заметил, да мало ли с кем может такое произойти при большом стечении народа?
Генерал, садясь в машину, сбросил на пейджер Глебу сообщение о том, что в девять он будет у него.
«Глеб не перезвонил, значит, встрече быть. Понятно, почему я там оказался, но что на похоронах стоматолога делает Глеб?» — для генерала это оставалось загадкой, и он надеялся, что вечером при встрече Глеб ему объяснит.
***
Фима, получив сообщение о смерти родственника вечером, воспринял его спокойно, словно Яков Наумович Кучер был для него человеком чужим. Но, поразмыслив, понял, надо ехать, ведь Яков Наумович богат и, может быть, ему, Фиме Лебединскому, что-то перепадет от тех богатств, которыми владел Яков Наумович. Он быстро собрался и, идя к вокзалу, сообразил: «А денег-то у меня до Москвы быстро доехать нет. Надо срочно у кого-то занять».
Фима остановился посреди улицы как вкопанный, в вечном черном костюме, темно-синей тенниске, с мрачным лицом.
«Да что б тебя! Придумал, когда Богу душу отдать. Хотя смерть всегда неожиданна, приходит тогда, когда ее не ждешь,» — эту истину Фима знал как дважды два, как-никак сам не одну сотню, а может, тысячу людей проводил на тот свет, при этом наслушался всякого.
Лишь к двенадцати вечера он умудрился одолжить денег на билет в один конец, да и это ему удалось путем длительных просьб и унижения. Но на унижение можно наплевать. Фима ехал в Москву ночным поездом, на постель денег у него не осталось, поэтому всю ночь он спал, положив голову на руки. Время от времени, проснувшись, он потягивал из литровой пластиковой бутылки пиво. В Можайске пиво кончилось.
«Ничего, на похоронах поем и выпью.»
На взгляд Фимы, когда он прибыл на место, все устроили не лучшим образом. И оркестра не было, и гроб не того цвета, и вообще, все здесь делается не так, как у людей.
«Ну да ладно, что указывать в чужом городе. В каждом монастыре свой устав, а в каждой синагоге свой раввин».
Фима старался все это время быть поближе к вдове, перевиделся с многочисленными родственниками, которые, глядя на него, участливо кивали головой, выслушивая о злоключениях, с которыми он добирался до Москвы. Фима умудрился, невзирая на трагизм ситуации, одолжить у каждого из близких и далеких родственников деньги на обратный билет: кто же в такой день станет скупиться? И Фима воспользовался ситуацией. Поэтому, он хотя и держал на лице гримасу грусти и печали, в душе был весел, почти хохотал.
Хорошо покушав и выпив в ресторане, Фима с самыми близкими родственниками и знакомыми оказался в квартире. Он улучил момент, когда вдову оставили, подошел к ней, взял за руки и, глядя в глаза, с придыханием и шепотом стал ей сочувствовать, говоря, каким замечательным человеком был Яков Наумович и как ему, Ефиму Лебединскому, не будет сейчас хватать мудрых советов и участия Якова Наумовича. Вдова согласно кивала.
— Фаина Михайловна, — гладя руку вдовы, прошептал Фима, — я, в отличие от других, не претендую ровным счетом ни на что, мне ничего не надо. Но не будете ли вы так любезны, в память о наших с Яковом Наумовичем родственниках, а он мне это обещал, отдать два портрета двух моих предков. Ведь я, Фаина Михайловна, самый близкий их родственник, они мне как родные, — и Фима скосил глаза на два портрета в деревянных рамах.
— Конечно, бери. Мне-то они ни к чему.
— Да-да, зачем они вам? А мне память будет. Я повешу их над своей кроватью. У меня ведь никого из близких не осталось, и буду вспоминать Якова Наумовича и весь наш род.
— Бери, Фимочка, бери.
Еще посидев пару минут и дождавшись, когда к маме подсядет дочь, Фима простился, сославшись на неотложные дела. Подошел к стене, снял портреты, нашел на кухне моток шпагата, перевязал картины, составив их лицом к лицу, и по-английски, ни с кем не прощаясь, двинулся к выходу. Он спускался по лестнице с улыбкой на пухлых губах, он был доволен своей изворотливостью, находчивостью и предприимчивостью. Визитка с телефоном Чернявского лежала у него в кармане. Но внизу, прямо у подъезда, к нему подошел мужчина в черных солнцезащитных очках:
— Здравствуй, Ефим, — твердым голосом произнес мужчина.
Фима насторожился, даже втянул голову в плечи, словно мужчина собирался его ударить и уже занес руку с пальцами, сжатыми в кулак.
— Ну, и что из того? — выдавил из себя Фима. — Вы что, тоже мой родственник?
— К сожалению, нет.
— А если бы был, то что?
— Если бы я, Ефим, был твоим родственником, то я бы у тебя купил эти картины. — Фима вздрогнул. — Один портрет ты продал, а я бы купил у тебя эти два.
— Кому это я портрет продал?
— Моему знакомому другу, Максу Фурье. В Витебске ты его продал на «Славянском базаре». Ты еще стоял рядом с амфитеатром, неподалеку.
— Ну, и что из того?
— Так вот, я у тебя хочу купить эти два портрета.
— Ха, — сказал Фима. — Спокойно, дорогой товарищ, эти картины не продаются, они мне дороги как память.
— О Якове Наумовиче?
— Хотя бы и о нем, — Фима оглядывался по сторонам, словно собирался звать на помощь.
Мужчина преспокойно запустил руку во внутренний карман темно-серой куртки и вытащил портмоне с металлическими уголками. Он развернул его, пальцами быстро пересчитал деньги.
— Четыреста долларов тебя устроит?
Фиму словно водой окатило. Если бы у него при себе денег не было, то он сказал бы «да». Но Фима был еврей, причем чистокровный, и на данный момент деньги у него имелись.
Поэтому он скорчил рожу, неприступную и неподкупную:
— По двести за картину? А дорогу кто мне компенсирует? Я ехал черт знает откуда, черт знает как, и вот так должен безо всякого навара и подъема продать вам эти портреты?
— Ага, — сказал мужчина, вытаскивая из портмоне пачку долларов. — Ладно, что мы разводим церемонии, как на базаре? Пятьсот долларов, — у мужчины в пальцах зашуршали банкноты.
Фима смотрел на купюры как завороженный:
— Мне один человек за них предлагал больше. Я ему сейчас позвоню. Если он от своих слов откажется, то я уступлю их вам за шестьсот, а если нет, то тогда не обессудьте. Торговля есть торговля, товар получает тот, кто платит больше.
— Это ты верно заметил. А звонить кому будешь?
Фима поставил картины между ног, сжал их коленями и принялся рыться во внутреннем кармане черного пиджака.
Наконец он вытащил визитку:
— Вот, телефончик у меня есть. Сейчас вернусь в квартиру, наберу, переговорю с ним. И если нет, то да, а если да, то нет.
— Звони.
Фима не понял. Мужчина подал ему «мобильник».
— Как им пользоваться?
— Называй номер, я наберу, ты поговоришь со своим купцом, и вдруг мы с тобой сможем договориться?
Фима продиктовал номер. Глеб быстро набрал, подал трубку Лебединскому:
— Олег Петрович, это вы? — услышав голос в трубке, радостно и возбужденно закричал Фима, — Тут такое дело… Это я, Лебединский Ефим, помните? Из Москвы звоню. Вы просили позвонить. Так вот, картины у меня. Но тут есть еще один покупатель…
— Какой Ефим Лебединский? К черту картины!
Ефим от этих слов вздрогнул:
— Я что-то не догоняю. Они вам нужны? А если нужны, так давайте встретимся и переговорим. Вы мне бабки, я вам картины, все довольны, все смеются.