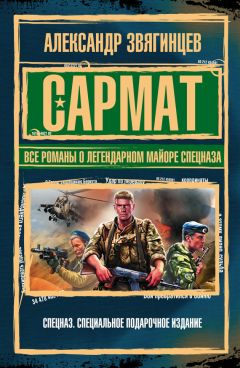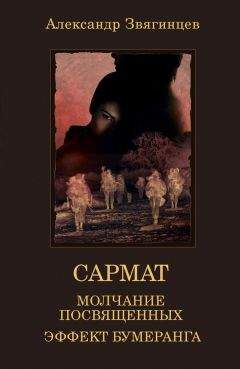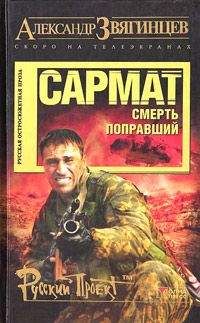Александр Звягинцев - Молчание посвященных
А звуки все ширились и нарастали, пока не превратились в праздничную многоголосую симфонию. Симфонию торжества жизни над смертью, торжества любви над безверием и жестокостью мира.
Улочка закончилась небольшой площадью, на которой взметнула к весеннему небу златоглавые купола православная церковь. Вековые колокола на ее звоннице исторгали ту торжественную и победную мелодию, которая с неведомой силой повлекла к себе Сарматова, заставила непривычно трепетать и сжиматься в тревожном предчувствии его исстрадавшееся в многолетних скитаниях сердце.
Толпившиеся у церковной паперти празднично одетые люди удивленно расступились перед решительно шагающим монахом, облаченным в желтый халат-дэли. А тот, не доходя до паперти, размашисто, по-православному, троекратно перекрестился, поднял к золотым куполам наполненные слезами глаза и застыл…
* * *Из края в край торжественно плывет над весенней донской степью ликующий колокольный звон. Буйная грива хлещет по щекам прижавшегося к конской шее пацаненка. Свежий ветер свистит в его ушах и высекает слезы из глаз. Сминая копытами лазоревый первоцвет, темно-гнедой Чертушка несет его, как на крыльях, к вершине заросшего цветущей сиренью холма, который венчает белая лебедушка-церковь. Маленький всадник обгоняет старушек в белых ситцевых платочках, стайки звонкоголосой станичной ребятни. По шляху мимо синеглазых озерец, оставшихся от половодья, мимо древнего кургана с каменной скифской бабой степенно вышагивают к пасхальной вечерне старые, повидавшие лиха на своем веку казаки. Среди них выделяется не утраченными с возрастом могучим ростом и статью дед пацаненка – Платон Григорьевич Сарматов.
– Не шибко гони, бала-а-а! – кричит он, обернувшись на нарастающий конский топот. – Не шибко-о-о!.. Коня загонишь, стервец эдакий!..
А «стервец эдакий» с разбойным свистом, упершись босыми ногами в стремена, проносится мимо бешеным наметом.
– Христос воскресе, деду-у-у-у! – доносится до старика его звонкий ликующий голос.
– Воистину воскресе, внуче! – размашисто крестится тот, а за ним и другие старые казаки: – Христос воскресе!
У глядящего вслед ускакавшему пацаненку Платона Григорьевича теплеют суровые глаза. Он останавливается и осеняет уносящегося внука и его коня крестным знамением.
– Храни тебя бог, внуче, на шляхах-дорогах твоих, – шепчут губы старого казачины, и навертываются слезы на его выцветшие глаза.
У церковной ограды пацаненок на полном скаку осаживает верного Чертушку и, не привязывая его, торопится в таинственный церковный придел, откуда несутся слова молитвы, которым вторит церковный хор.
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!» – вслед за облаченным в золотую рясу священником повторяет молитву мальчуган и, подражая взрослым станичникам, крестится щепотью. С церковных икон смотрят на него православные святые. Под их строгими взглядами пацаненок робеет и, прошмыгнув ужом между молящимися земляками, торопится на колокольню.
С высоты звонницы ему открывается бескрайний простор – зацветающая степь, утонувшая в вишенном и грушевом цветении станица и широкая излучина паводкового Дона-батюшки, сливающегося у горизонта с голубым небом. От этой земной красоты заходится пацанье сердечко, а одноногий звонарь в выцветшей солдатской гимнастерке сует ему концы веревок от двух малых колоколов:
– Ишь, рот раззявил! – шамкает он беззубыми устами. – Накось, накось, малец, пособи маненько на подголосках…
Баммм… Баммм… Баммм… – торжественно гудит большой колокол.
Биммм… Боммм… Биммм… – вторит ему средний.
Траммм… Тииимм… Тииимм… Траммм… – заливаются послушные пацаненку малые колокола.
В перерыве звонарь вытирает с морщинистого лица пот и, постукивая деревяшкой, растягивает в довольной улыбке губы.
– Уши у тебя слухастые, паря. Быть тебе первым станишным гармонистом, али в городе пальцами в роялю тыкать, – шамкает он…
* * *– Боже мой, я все вспомнил!.. Боже мой, все!.. Эх, дед Тереха, жаль только, что не сбылось твое предсказание!.. Не сбылось!.. Не сбылось!.. – глядя на золотые купола, сверкающие нестерпимым блеском под жаркими лучами южного солнца, со звериной тоской прошептал Сарматов.
Он троекратно перекрестился на невесть как оказавшуюся здесь, на берегу Южно-Китайского моря, православную церковь и, еще раз в пояс поклонившись ей, быстрым и решительным шагом направился в сторону набережной.
– Я все вспомнил, сенсей, – радостно сообщил он подошедшему Осире.
– О-о-о! – воскликнул тот. – Я очень рад за тебя, Джон!
– Я не Джон, сенсей, – решительно рубанул рукой воздух Сарматов. – Казак я! Русский я!.. Русский!!!