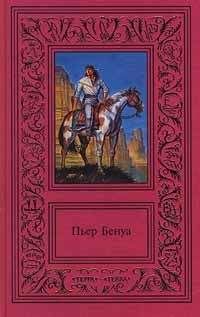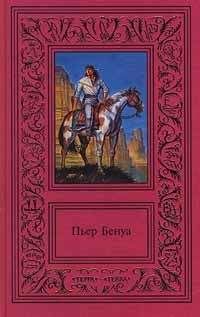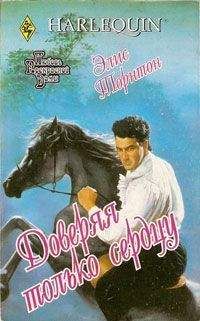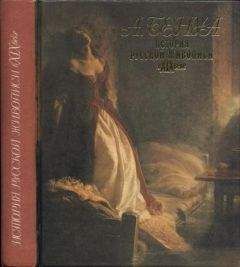Михаил Ишков - Супердвое. Версия Шееля
Вспомнил приемчики, с помощью которых он поддерживал во мне рабочий настрой, особенно его блистательную оперативную уловку, когда он, отправившись в мир иной, явился передо мной на экране монитора и, смертью смерть поправ, уже из виртуального пространства продолжал руководить моим расследованием тайн минувшей войны.
Вспомнил неоднократные напоминания насчет воспитательной работы – ее, настаивал Николай Михайлович, необходимо ставить «во главу угла». Это было требование самого Петробыча – так Трущев называл Сталина. Он ни разу не объяснил источник такой фамильярности, хотя как на духу выложил многое из непростой жизни Петробыча.
Мне особенно запомнился наш последний вечер на даче. Мы пили водку, закусывали квашенной капустой и жареной колбасой, а также вкуснейшими яблоками последнего урожая. Как ни странно это звучит, но ветеран был заранее извещен о дне своей кончины. Срок назначил небезызвестный Вольф Мессинг. Этому экстрасенсу можно доверять, на следующее утро я лично убедился в этом.
Мы беседовали долго… Это был захватывающе интересный вербовочный разговор. Перед логикой Трущева трудно было устоять. Он уверенно опроверг общепризнанное заблуждение, что лучшим ответом на вопрос, сколько будет дважды два, является «сколько нада»?
Правда, у меня остаются сомнения. Утверждение, что результатом является твердая, непоколебимая «четверка», относится исключительно к области рациональных чисел. А как быть с мнимыми или иррациональными, например с небезызвестным «π»? Кто может подтвердить, что оно действительно бесконечно и две его величины, помноженные на радиус, составляют длину окружности? Вот тут и задумаешься – величины иррациональные, а окружность вполне и окончательно замкнута.
Другими словами, конечна.
Как это может быть?
После бесед с Трущевым мне стало более–менее понятно, как из бесконечного вывести конечное. Над решением этой задачки весь прошлый век бились самые продвинутые умы. Не щадя ни сил, ни человеческой крови, они пытались найти ответ, как из увлекательной, вселенского масштаба идеи социальной справедливости вылупляется мелкий, злобный, увертливый «изм», а из естественного «убеждения в чем‑то» – всесокрушающая «убежденно сть» во всем.
В тот вечер Трущев пояснил, что квадратура круга дело прошлое, теперь на очереди новое задание – как из конечного вывести бесконечное. Как, например, из неуемного стремления к наживе выудить бескорыстную заботу о ближнем, из воли к смерти – жажду жизни, из приземленного благотворительного рационализаторства – вечный социальный двигатель или машину времени–счастья. В помощницы Трущев привлек историю, а против этой сухопарой, предельно вежливой дамы никто не смог бы устоять. Также в ту роковую ночь Трущев сообщил мне пароль, позволяющий напрямую общаться с Согласием, требующим не задавать глупых вопросов, а попытаться найти общность с другим и другими, иначе всем крышка.
Сидя у погасшего экрана, вооруженный портсигаром, когда‑то подаренным Трущеву самим Берией, я пытался выстроить всю цепочку фактов – от разговора в привокзальном кафе, где в компании с Петером фон Шеелем мы всласть отведали водки, до этой последней записи, обнаруженной в «мертвом почтовом ящике», каким оказался файл, присланный мне его отцом.
Память оказалась мощным оружием. Она подсказала – отсылка могла относится к его даче в Вороново, точнее, к печке, возле которой мы провели незабываемую ночь. Другой печной трубы, которая связывала меня с Трущевым, не было.
Глава 2
Я постоял у калитки – нелегко было вот так сразу приступить к выполнению порученного мне задания. Как успевший поднатореть в литературно–розыскных мероприятиях оперативник я полностью сознавал трудности, связанные с преодолением препятствий, ожидавших меня на пути к цели. Первой из них можно было считать неопределенность статуса, ведь согласно условиям игры мне было предписано быть одновременно и «писателем» и «читателем», что, согласитесь, звучит не только дико, но и с намеком на сдвиг по фазе.
С другой стороны, позиция «сам себя сочинитель» и «сам себе читатель» давала известные преимущества – я мог дописывать за Трущева его собственные воспоминания. И не только за ветерана, но и за Алекса–Еско фон Шееля, его альтер эго Анатолия Закруткина, – за каждого, вовлеченного в этот пронизанный огнем, кровавый потоп, именуемый «жестокой драмой войны». Пусть разорвано, с пропусками, с умолчаниями, с кавычками и многоточиями, но только без заказного славословия или захлеба от желания быть угодным какому‑нибудь слдадкозвучному, представительному и много обещающему «изму».
Была не была!
Я решительно отворил калитку.
День был пасмурный, дождливый.
Дача, напоминавшая избушку на курьих ножках, была последней в ряду более емких и масштабных строений и органично вписывалась в поросший березами косогор. Далее, за кооперативной изгородью и рощей, проглядывало поле, по дальней кромке которого тянулся набиравшийся сил после зимы лес.
Удивительно, но за этот срок дом не только не постарел, но даже как‑то приободрился, затеплился невечерним светом. Веранда и половицы в коридоре встретили меня прежним музыкальным скрипом, большая комната гулкой пустотой и неожиданной опрятностью. Исчезли книжные шкафы, забитые сочинениями Ленина–Сталина и дядьки их Маркса–Энгельса, убрано раскиданное повсюду и подгнивавшее в сырости тряпье.
Кто их убрал?
На прежнем месте громоздился древний шифоньер и ободранный сервант, на полках которого, как и прежде, сверкали разнородные хрустальные рюмки из недобитых сервизов. Возле стола торчали стулья, у дальней стены два протертых до поролоновой подкладки кресла. Между ними был добавлен вполне приличный раскладной диван.
Странным показалось, что осиротевшая обитель согласия, где давным–давно не ступала нога человека, сохранила прежний жилой вид. Это была самая ничтожная тайна из тех, что поселились в этом логове при жизни его хозяина.
Впрочем, не будем о грустном.
Не знаю, кто как, а я люблю лазить по чердакам. Это самое заветное для любого литератора место, где самый неудачливый и бездарный писака может рассчитывать отыскать нечто такое, что позволило бы ему до конца своих дней кормить не только себя, но и семью.
Мимо комнатенки на втором этаже, где в то роковое утро покоилось закоченевшее тело Трущева, я прошел на цыпочках. Поднялся по приставной лестнице, ведущей на чердак. Здесь уткнулся в запертый на висячий замок люк. В скважине замка торчал ключ. Этот сюр был вполне в духе Николая Михайловича, умевшего до мелочей продумывать все этапы планируемой операции.
Чердак встретил меня сумерками и пылью. Между сумерками и пылью царило полное согласие, которого мне хватило, чтобы не удариться о обитый медным листом сундук.
В нем лежало несколько папок а также ящичек, в котором хранились древние дискетки. Где, скажите на милость, отыскать компьютер, в который их можно было бы воткнуть?
Все папки были пронумерованы и подписаны – «документы», «семейное…», «черновики», «личные дела», в которых я нашел «оперативки» на самых несхожих в мире исторических персонажей – например, на Нильса Бора, Рудольфа Гесса, Густава Крайзе по кличке «Оборотень», графа Сен–Жермена и, не поверите, на Заратустру… Руки у НКВД воистину оказались длиннее некуда. Одна из папок была гордо озаглавлена «Беловой вариант». Выше печатными буквами от руки гриф «Сов. секретно». Ниже заголовка уточняющее распоряжение – «До прочтения сжечь!»
Я не удержался и развязал узелок.
Это была она, заветная…
Текст был рукописный, почерк Трущева – в этом сомнений не было. Свои откровения он никогда не доверял машинисткам, сам печатать не любил, а о компьютерах в те годы еще мало кто слыхивал. Старческие каракули изредка перебивались вклеенными печатными вставками, чаще всего подтверждающего характера – фотографиями, справками, приложениями к справкам, копиями докладных и аналитических записок, оперативных и личных характеристик, спецсообщений, протоколов допросов, рапортов, а также редкими цитатами из книг.
Впереди преамбула:
«Далее по тексту будут приводиться некоторые закрытые сведения, до сегодняшнего дня не подлежащие разглашению.
Форма допуска – два!
Ознакомился – забудь!
Если уважаемый читатель рискнет лично проверить эти сведения, в этом случае вся ответственность ляжет на него».
Вторая форма допуска к секретным материалам у меня была с советских времен, так что я счел возможным ознакомиться с содержанием вложенных в папку материалов.
Глава 3