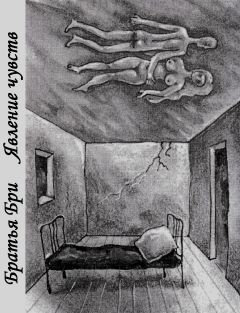Александр Проханов - Война страшна покаянием. Стеклодув
Ближе всех находился огромный, косматый вожак, одноглазый, с черной, вместо глаза дырой, из которой сочилась сукровица. Другой глаз фиолетовый, огненный, дрожал, искал на теле Суздальцева место, куда вонзить клыки.
Суздальцев держал в руках камень, свое боевое оружие, которое заменяло ему снайперские винтовки и огнеметы, установки залпового огня и тактические ракеты. Оружие неолита, сжимая которое он зверел, наливался ответной ненавистью, скалился, издавая свистящий хрип.
Вожак кинулся на него, и он ощутил удар тяжелого зловонного тела. Устоял на ногах, чувствуя, как клыки полоснули грудь, и, отлетая, переворачиваясь в воздухе, вожак на мгновенье замер, раскрыв в стороны лапы, выбросив из пасти язык, и в эту пасть, в этот мокрый пламенеющий факел Суздальцев ударил камнем. Камень округло вошел в собачьи ребра, и животное, взвизгнув, шмякнулось оземь. И вся стая, давясь, хрипя, толкаясь в бросках, кинулась на Суздальцева и повисла на нем — на ногах, ягодицах, спине, она вгрызалась в живот, в печень, стараясь свалить и подобраться к горлу. И он, обвешенный гибкими телами, наносил удары, дробил клыки, сбивал их с себя камнем и, как и они, хрипел, визжал, лаял. Был, как и они, одичалой тварью, изувеченной войной. Битва на дне ложбины длилась несколько минут, и собаки враз, словно услышав приказ, отпрянули, отшатнулись, помчались прочь, оставляя за собой солнечную мутную пыль, ведомые одноглазым вожаком.
Он стоял, качаясь, искусанный псами, в разорванных брюках, с каменным боевым топором и сквозь продранные порточины виднелись кровавые следы от укусов.
Собаки скрылись. Была тишина. Было бессилие и пустота, в которой слабо и неясно звучал вопрос — кто привел его в эту ложбину, кто вложил в его руки камень, кто направил на него свирепую стаю, кто помог ему победить, и победа его повторяла настенные рисунки дикарей, не знавших милосердия и любви.
Он присел, прилег, откинул в сторону камень. Голыш откатился и лег так, что на нем был заметен след от ракушки. Он сидел без мыслей, без чувств, глядя на следы от укусов, на пропитавшую брюки кровь.
* * *Округлый камень в потеках собачьей крови лежал поодаль. Суздальцев тупо и бессмысленно смотрел на его овальную поверхность с сетчатым отпечатком ракушки, похожим на ресницы. Вдруг померещилось, что камень дрогнул, умягчился, по его гладкой поверхности пробежал живой трепет. Он изумился, объяснил себе это стеклянным дрожанием горячего воздуха, слезами, которые текли по лицу. Но камень стал расти, увеличиваться, и в нем открылся глаз, живой, втрое больше обычного, нежно-голубой и влажный, с темным зрачком, который смотрел на него. Белок сливался с округлой поверхностью камня, не было ни век, ни ресниц. Живое, изъятое из таинственной глазницы око лежало перед ним на горе и смотрело пристально и серьезно, и Суздальцев чувствовал на себе взгляд зрячего камня.
Взгляд был спокойный, почти равнодушный, и Суздальцеву казалось, что зрачок остекленел, поймал его в свой фокус, и его изображенье, перенесенное в глубину глаза, стало изображением на камне. И вдруг зрачок расширился, затрепетал, испуская едва заметные лучи, которые примчались к Суздальцеву, пронзили его, оцепенели, сделали прозрачным, и он в своей неподвижности, не в силах шевельнуться, чувствовал, как глаз высвечивает в нем все его потаенные мысли и чувства, все случившиеся за жизнь прегрешения, озаряя глубины памяти, где хранилась вся его жизнь, вплоть до снов, которые он видел в младенчестве, ночных кошмаров и греховных молодых вожделений. Вся его жизнь, наполовину им самим позабытая, предстала глазу. И он сидел немой и прозрачный под взглядом всевидящего ока.
Оно потемнело, зрачок расширился, стал черным, бездонным, вокруг него светилось тончайшее золотое кольцо, мчались к Суздальцеву гневные вихри, от которых дрожал и расслаивался воздух, и он чувствовал, как в него вонзаются лучи гнева, поражают в душе незримые цели, сжигают его грехи, убивают его плоть, стремятся вырвать из нее душу, которая беспомощно и послушно расставалась с испепеляемым телом. Яркое око трепетало, полное фиолетовой плазмы, и утихло. Стало наполняться синевой, тихой лазурью, божественным дивным светом, какой случается в марте, если смотреть на небо сквозь голые вершины начинающих просыпаться берез. Синева становилась гуще, бездонней, какой не бывает на земле, а только в бездонной высоте, куда стремится душа. И из этой неземной синевы исходила, изливалась, дивно излучалась на Суздальцева любовь, бесконечная, безмолвная, любившая в нем его измученную душу, его исстрадавшееся тело, его грешные и благие помышления, всю его судьбу, которая была ему дарована свыше и которую он нес на неизбежный будущий суд к тому, кто смотрел на него с любовью из окровавленного камня, брошенного в высохшее русло ручья. И этим любящим оком смотрел на него Стеклодув, не объясняя ему, зачем привел Суздальцева в эту низину среди выжженных афганских холмов.
Синева стала медленно гаснуть, бледнеть, око закрылось, и над ним промерцала огненная струйка лазури.
Суздальцев сидел перед камнем, испытывая такую нежность, благодарность, любовь, от которой текли слезы, и весь мир вокруг был перламутровым от слез.
Он приблизился к камню, попытался поднять. Камень был непомерно тяжел, не отрывался от земли, словно был создан из тяжелых метеоритных сплавов, упал в эту ложбину из Космоса. Суздальцев наклонился к камню и поцеловал, почувствовал на губах едва различимый отклик.
Глава пятнадцатая
Он шел степью, удаляясь от места собачьего побоища. Был слаб, спотыкался. Хотелось есть. Жажда его больше не мучила, арык напоил его на многие часы, но голод глодал его, снедал его плоть, и голодная ядовитая слюна жгла гортань. Он жадно искал, что можно было бы сжевать. Помутненно думал о еде, его преследовали съестные вкусы и запахи, он глотал слюну, а вместе с ней горечь и желчь. Степь была покрыта толстой коростой, вся в черных стебельках сгоревшей полыни, у которой не было ни вкуса, ни эфирного запаха. Степь была мертва, без плодов и злаков, В ней не было водоема с плещущей рыбой, не было гнезда с птичьими яйцами, не скакали кузнечики, которыми утоляли голод пророки, не пахло медом диких пчел, услаждавших отшельников. Степь сухо шелестела и мертвенно поблескивала, словно из нее торчали маленькие блестящие гвозди.
Он сел, чтобы пережить приступ голодного обморока. И увидел у самой земли иссохшие стебельки, усыпанные крохотными оранжевыми плодами. Они были удлиненные, как барбарис, размером с муравьиное яйцо. Он оторвал ягодку и разжевал. Сквозь плотную кожицу на язык брызнула сладковатая капля, выдавилась едва ощутимая мякоть. В сердцевине находилось жесткое семечко, и Суздальцев проглотил его, не разжевывая. Вкус был незнакомый, но дразняще приятный. Суздальцев собрал в ладонь все плоды до единого, ссыпал в рот и стал жевать, всасывая сок и мякоть, глотая крохотные косточки.
Обобрав один кустик, он стал искать следующий, но не находил подобного среди щетинистых мертвых полыней. Быть может, случайная птица принесла из далеких предгорий одинокое семечко, и оно проросло, одарив его, Суздальцева, своими оранжевыми плодами. Он поблагодарил незнакомую птицу и двинулся дальше.
Он вдруг ощутил странное облегчение, словно исчезла его усталость, и по телу полилась свежая бодрящая сила. Голова его просветлела, мысли расширились, а вместе с ними расширилась степь, утратила свой стальной беспощадный блеск, стала розоветь, зеленеть, наполняться разноцветными соками, как случается на весенних опушках, когда кусты, разбуженные теплом, еще без листвы, наполняются алыми, малиновыми, золотыми и изумрудными соками, сияют среди последних снегов.
Ему стало вдруг хорошо и весело. Хорошо потому, что исчезли горечь во рту и боль в ранах, а весело потому, что он стал невесом, шел, не касаясь земли, отталкиваясь, висел и парил в воздухе, и ему хотелось плавно перевернуться, как космонавту.
Он вдруг понял, что не один. Еще не знал, кто находится близко, но присутствие живого, неопасного, а, напротив, благоволящего ему существа он ощущал.
Внезапно это существо появилось. Это была высокая женщина, смуглая, почти черная, босоногая, что грациозно ступала впереди него и оглядывалась, словно подзывала. У нее были большие округлые с яркими белками глаза, полные губы, худая стройная шея, на которой небольшая темноликая голова казалась выточенной из черного дерева. Так выглядели эфиопские женщины у храма в Лалибелле, куда его однажды занесла судьба. Или африканские маски, одну из которых он купил в Дакаре. Но она могла быть древней египтянкой, ибо в ее мелких темных кудряшках красовался пернатый, из раскрашенных перьев убор, делавший ее похожей на птицу.
Он обрадовался ее появлению. Был счастлив, что теперь не один. Хотел приблизиться, заговорить, но боялся ее спугнуть. Она не пугалась, оглядывалась, показывая в улыбке белые зубы, ее босые ноги и тонкие щиколотки мелькали из-под подола долгополого, с цветочным узором платья. Он заметил, что у нее на груди маленькая бирюзовая брошка, которую носила девушка, считавшаяся его невестой. Это и впрямь была она, с тем знакомым выражением зеленых таинственных глаз, которые он так любил целовать. Он хотел подойти и спросить, как она очутилась в этой афганской степи, ничуть не состарившись за эти годы, но она вдруг превратилась в жену, молодую млечную с ярким румянцем и влюбленными в него, обожающими глазами, когда они уехали в свадебное путешествие на Белое море, и волны звонко били в ладью, на днище лежала яркая, как зеркало, семга, и жена была уже беременна сыном. Сын чувствовал окружавшую их водную синь, низкий полет уток, эту серебряную рыбину и ту любовь, в которой он рождался.