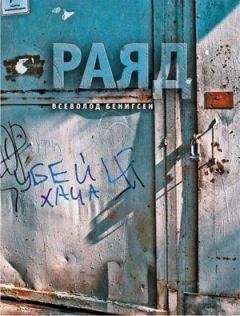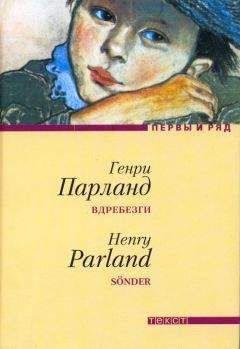Всеволод Бенигсен - ВИТЧ
— Почему же Блюменцвейг молчал?
— Да по той же причине. Он ведь тоже был активным диссидентом. Он сам себе не мог признаться в собственной пустоте. Поэтому и принялся делать себе новую биографию. Суетился, суетился, боролся с серостью. Ну и книжку свою пописывал. Хотел оставить после смерти в назидание потомкам.
И Зонц расхохотался. Как всегда, заразительно.
Максим почему-то подумал, что в русском языке смех заразителен, а болезнь заразна, и никак не наоборот, хотя и то и то имеет абсолютно одинаковое значение.
— Но ведь есть же отчеты, данные о Привольске…
Зонц усмехнулся.
— В КГБ во время перестройки творился такой бардак, что документов по Привольску там днем с огнем не сыщешь. Я же был в спецхране. Там полная неразбериха. Да и список привольчан мне попал в руки почти случайно.
— А зачем же вы мне все это рассказываете? — вдруг как будто очнулся Максим.
— А зачем мне вас держать в неведении? — вопросом на вопрос ответил Зонц.
— До этого, однако, вы меня именно в нем и держали, — едко заметил Максим.
— А как было иначе? Я же все уже объяснил. С книгой, правда, я вас слегка подвел, но, во-первых, вот…
Тут Зонц полез во внутренний карман, и Максим невольно съежился. «Сейчас достанет пушку и всадит девятиграммовый гонорар прямо в лоб».
Заметив напряжение Максима, Зонц улыбнулся, видимо, прочитав мысли собеседника.
— Ну, вы уж из меня совсем злодея-то картонного не делайте.
Он шлепнул на стол пачку стодолларовых купюр.
— Что это? — задал глупый вопрос Максим.
— Ваш гонорар, причем целиком.
На секунду у Максима мелькнула мысль сказать «нет» и брезгливо отодвинуть деньги, а может, даже и швырнуть в лицо коммерсанту. Но он быстро понял, что даже на это не способен, и потому просто поднял глаза на Зонца.
— А во-вторых, — продолжил тот, поправляя дорогой пиджак, — согласитесь, что в свете новых фактов вся ваша книга яйца выеденного не стоит.
Эта формулировка покоробила Максима, но он и тут промолчал.
— Да и потом, — добродушно улыбнулся Зонц. — Ну рассказал я вам все и рассказал. Не будете же вы мне дорогу перебегать и на рожон лезть? Хотите, кстати, я вас к себе на работу устрою?
— Швейцаром в стриптиз-клуб?
— Ну зачем же так? Не забывайте, я же все-таки советник по культуре. А вы — человек образованный, с вами приятно поговорить. Будете что-нибудь курировать.
Подавленный свалившейся на него информацией, Максим ничего не ответил. Зонц откашлялся и задавил окурок сигареты.
— Ну вы сейчас ничего не говорите. Но подумайте. Эх, жаль, что вам пить нельзя — сейчас бы выпили.
— За что? — горько усмехнулся Максим. — За то, что вы и есть самый главный рассадник ВИТЧа?
— Ха-ха! Бросьте вы эти блюменцвейговские штучки. Было и прошло.
— Теперь понятно, почему вы не привлекали никакие службы. А я-то думал, почему все такими узкими силами решается. Ни тебе мигалок, ни ОМОНа.
— Все верно. Зачем мне лишняя шумиха? Это же мой город.
— Угу, — хмуро пробурчал Максим. — Прямо Кампанел-ла. Город Зонца.
— Смешно, — улыбнулся Зонц. — Да не переживайте вы так за культуру. Я же ведь с вами заодно.
— Это, интересно, как? Собираетесь устраивать спа-са-лоны, казино и бордели, а сами боретесь за культуру?
— Да! Именно так! Пускай плодится серость и масскульт развлечений. Ради бога. Не надо с ней бороться.
— А надо ею пользоваться, да?
— И это в том числе. Но на самом деле все это к лучшему. Ведь культура только тогда и будет культурой, когда станет островком. Небольшим островком. Именно тогда на этот островок будут стремиться попасть люди. А если вы будете растягивать этот остров на целую страну и весь народ, то от культуры ничего не останется. Будет большой растянутый гондон, простите за грубость. Этим вы только убьете культуру.
— А не боитесь, что этот островок просто утонет в мире ВИТЧа, выражаясь термином Блюменцвейга?
— Не боюсь. Не надо только на него переселять целые народы. Тогда он и не утонет.
Зонц встал и, зевнув, тряхнул головой.
— Не выспался совсем, — пояснил он. — Замотался. Ну ладно. Насчет моего предложения подумайте. И не переживайте.
Он протянул руку, которую Максим вяло пожал.
— И вам не хворать, — сказал он тихо и беззлобно. Потом вдруг поднял глаза.
— Скажите, Зонц, а почему мне снится один и тот же сон? Как вы думаете?
— Не знаю, — пожал тот плечами. — Говорят, это зависит от фазы сна. Он вас что, мучает?
— Можно и так сказать…
— Ну, если сон тревожный, значит, вас что-то беспокоит. Хотя может быть и простое переутомление. Это может быть и постстрессовое состояние, и еще черт-те что. Сходите к невропатологу…
— Но сон не тревожный.
— Да? — удивился Зонц. — А если сон не тревожный, как он может мучить?
Максим грустно усмехнулся и развел руками. Зонц выдержал паузу, но, поняв, что ничего за этим жестом не последует, хмыкнул и вышел в коридор. Сказал, что позвонит, и вышел.
Закрыв за гостем дверь, Максим обессиленно сел на стул в коридоре и уставился на автоответчик. В голове пчелами роились мысли.
Значит, его использовали… «ребенка не моргнув сожрал»… Очень мило. Вот она, новая реальность. Забыл спросить про Панкратова и книгу Блюменцвейга… Черт… Как там Блюменцвейг говорил? Самое большое зло — это те, кто пользуются нормой для достижения своих личных целей. Они — главные пожиратели реальности и производители серости. Они ее спонсоры. И все же… неужто Зонц непричастен к смерти Блюменцвейга? Свежо предание. Или, как остроумно заметил Блюменцвейг про одного их сокурсника, который сбежал на Запад и которого поносили на комсомольском собрании за то, что тот предал Родину, — «свежо предательство, да верится с трудом». А главное, что теперь и не узнаешь никогда: сам ли Блюменцвейг под поезд соскользнул или помог Изя Зонц. То есть Изи. Изи… Take it Изи…
В голове стало крутиться дикое имя Зонца, и Максим встал. Стал расхаживать по квартире и сам не заметил, как очутился в библиотеке. На самой нижней полке он увидел книгу «Беседы с Лениным. Статьи, интервью» и, присев на корточки, вытащил книгу за корешок. Вообще-то подобную литературу Максим у себя в библиотеке держать бы никогда не стал, но эту книгу ему подарил Блюменцвейг. Еще в институте. Перед зачетом по марксизму-ленинизму. Причем нагло подписал: «От автора с любовью». С тех пор эта книга уверенно заняла свое место в рядах художественной литературы, и Максим просто не решался ее выбросить. Теперь, кажется, пробил ее звездный час. Он открыл книгу наугад, и первое, на что наткнулись его глаза, был следующий абзац:
«В искусствен не силен. Для меня это что-то вроде интеллектуальной слепой кишки, и когда его пропагандная роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его: дзык! дзык! Вырежем. За ненужностью». И чуть ниже: «1923 год, из беседы В.И. Ленина с художником Юрием Анненковым».
«Вот оно, твое ИЗИ, — подумал с досадой Максим. — Изучайте заветы Ильича».
Он отложил книгу и набрал телефон Алика. Больше звонить было некому. Ну не Толику же душу изливать. Впрочем, как знать…
Трубку взяла жена Алика Рита.
— Алло.
— Алло, Рита? Это Максим. Я сегодня зайду, ничего?
— Да, мы дома целый день. Алика сейчас нет, но я передам ему.
— Спасибо.
Положив трубку, Максим почувствовал какое-то облегчение.
XXVII
Дверь открыл сам Алик. За те несколько лет, что они не виделись, он совершенно не изменился. Бывает такой «морозоустойчивый» тип людей. На нем были джинсы, майка и ослепительно белые носки. Он не любил тапочки. Всегда ходил в носках. Говорил, что так он ближе к земле. Когда же его спрашивали, а почему не босиком, мол, так еще ближе, он отвечал, что босиком холодно, что, в общем, было хорошим логическим объяснением, после которого спрашивающий терялся и замолкал.
— Ну привет, блудный брат, — усмехнулся Алик, впуская Максима в квартиру.
Они пожали друг другу руки, но Алику этого показалось мало, и он крепко обнял Максима, даже, кажется, попытался того поцеловать. Максим с детства не любил дружеских поцелуев, поэтому слегка отстранился.
— Да ты проходи, проходи, — засуетился смущенный этим отстранением Алик.
В прихожей было темно, особенно после залитой солнцем лестничной клетки.
Максим сделал шаг и тут же обо что-то споткнулся. Падая, ухватился за чье-то пальто на вешалке, сорвал его и упал, ударившись коленкой обо что-то твердое.
— Мать твою! — выругался он, вставая и потирая ногу.
Только сейчас он заметил, что на полу сидел тот,
об кого он споткнулся — двенадцатилетний сын Алика, который прямо в прихожей мастерил огромную кривую табуретку. Делал он это крайне сосредоточенно и, похоже, даже не заметил, что о него споткнулись.