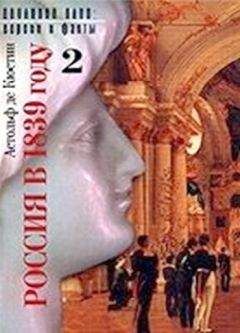Андрей Таманцев - Молчание золота
— А что это он так на тебя накинулся? — спросил я. — Эй, мальчик… ты меня слышишь?
Ответ последовал не сразу, но был настолько неожиданным, что окупил все мгновения неловкой паузы:
— Да уж конечно. Я его понимаю, дядю Юнуса. Он просто не хочет умирать, вот и разозлился. Я бы на его месте тоже разозлился.
Он поднял на меня свои черные глазенки и с интересом стал приглядываться. В его облике было что-то от собачонки, принюхивающейся к человеку, только что прикормившему ее с руки.
Я даже несколько оторопел, услышав слова этого маленького человечка:
— То есть, как это? Не хочет умирать, потому и разозлился. Я вот тоже не хочу умирать, да только не злюсь, как он.
Он склонил голову к плечу и сказал, выговаривал русские слова с легким, неуклюжим таким смешным акцентом:
— Да ну. Ты — другой. Тебе еще не скоро умирать. А дядя Юнус увидел, что я его пририсовал рядышком с чудищем, вот он и разозлился. Боится, что скоро умрет, вот он на меня и рассердился. А я на него не обижаюсь.
Он говорил это очень спокойно, тонким, тянущим слова голоском, но у меня мороз пробежал по коже. Я спросил:
— Как тебя зовут?
— Эркин, — ответил он. — Эркин. Я очень люблю рисовать. Но я же не виноват в том, что меня не любят за то, что я люблю рисовать. Ведь правда, не виноват? Потому что я рисую только то, что правда, а папа и другие меня за это не любят. Папа заставляет меня плавать и приносить вино и всякую еду, а я не люблю плавать, потому что вода… она такая… мокрая. И я не люблю ручьев и рек. А ты любишь рисовать?
На этот вопрос я не ответил. В тот момент, когда я задавал его, мой взгляд коснулся деревянной панели, к которой прислонялся спиной мальчик Эркин, когда висел, подвешенный к потолку. К этой панели был прикреплен рисунок, тот самый, край которого я видел, когда Эркин еще закрывал его своей маленькой спиной. Между тем рисунок был вовсе не маленький, от края до края не меньше шестидесяти сантиметров, и еще полтора метра в высоту. С первого взгляда казалось, что бумага покрыта какими-то аляповатыми пятнами, слабо складывающимися в единое целое… но, приглядевшись, я почувствовал, как холодеют мои ноги и врастают в пол.
Мало, мало на свете такого, чего бы я испугался. Но сейчас мне стало по меньшей мере жутко. Потому что с бумаги, с еще влажной акварели, расписанной детской рукой, на ценя смотрела жуткая рожа, уже несколько раз являвшаяся мне в кошмарных снах. Бурые пятна слагались в очертания страшной рожи, пылал яростью красный глаз, а длинные, широко расставленные руки, Густо поросшие бурым волосом, бугрились мощью. Руки эти с громадными когтями не пустовали, в них была окровавленная человеческая голова, размалеванная алым. Портретного сходства не было почти никакого, но я тотчас же понял, что оторванная голова принадлежит Юнусу. Доброму дяде Юнусу, который только что швырялся ножами в юного рисовальщика, изобразившего его смерть. Смерть фантасмагорическую и жуткую, но ведь что-то стоит за тем, КАК Юнус отреагировал на этот рисунок!.. Ведь так?
— Ведь так? — повторил я вслух, а потом, ткнув пальцем в изображение жуткого дэва, почти такой же кошмар, что во плоти видел и осязал я в тутовой роще под Аввалыком, спросил: — Это… это что ты такое нарисовал?
— Только не ругайте меня, — быстро сказал Эркин и отскочил к стене, и глаза его блеснули остро и настороженно. — Мне хочется рисовать, вот я и рисую. Я не хочу рисовать бабочек и ишаков, как велит папа. И не хочу рисовать дыни и арбузы, как говорит мама. Мне неинтересно. Мне интересно рисовать свои сны. И вообще все, что в голову приходит.
Он замялся и прибавил что-то по-узбекски, верно не подобрав соответствующих русских слов. «Нет, ну нарочно не придумаешь! Юный Сальвадор Дали, рисовальщик собственных снов, черт побери! — подумал я с оттенком смятения. Признаюсь, в эту минуту я забыл и о своих профессиональных навыках, и о цели своего появления в этом доме. — Нет, конечно, Восток — дело тонкое, но чтобы так…»
— Значит, дядя Юнус ругал тебя за то, что ты нарисовял его голову в руках чудища? А откуда ты взял это страшилище?
— Я его видел.
Я мотнул головой и, сглотнув, вымолвил:
— Во сне, да?
— Почему во сне? — переспросил мальчик. — На самом деле. Да я уже много раз рассказывал, но мне никто не верит. И теперь я никому не рассказываю. Потому что не поверят, и все. И тебе не расскажу.
Интересный мальчик. Никакой благодарности за то, что я избавил его от возможных раненнй, а то и смерти — ведь вон как был взвинчен этот Юнус! Никакого страха, никакого смущения, только детская непосредственность с которой он рассуждает об обиде Юнуса как это он, Эркин, изобразил его в лапах смерти, окровавленных, когтистых — примерно таких же, с какими совсем недавно вошла в соприкосновение моя спина, — еще не зажили рубцы на коже… В самом деле, есть в этом мальчике что-то жутковатое, нездешнее. Я присел перед ним на корточки и, взяв его за руку, произнес:
— Расскажи. Я поверю. Я не буду смеяться. Я тоже видел таких страшилищ. Ты где их видел? Я — в роще. А ты?
Эркин растянул губы в улыбке. Кажется, он радовался моим словам. Радовался тому, что я собрался ему поверить.
— Я еще тогда говорил папе, что ничего хорошего не получится, — заговорил он. — Когда приехали дяденьки, чтобы в земле копать. Ax-ре… археологи, — выговорил Эркин. — Они еще с собой ящики привезли. Большие. А потом пришли вот такие, — он указал пальцем на свой рисунок, и я, машинально глянув в том же направлении, снова не сумел удержаться от крупной дрожи. — Я увидел их здесь, вот у нас в подвале, — продолжал мальчик, — а потом они исчезли и больше не появлялись. И хромого я больше не видел, у него такие нехорошие глаза.
— Хромого? — переспросил я. — Какого хромого?
— Ну как же… дядя… ты что, не знаешь? Тамерлана. Он приходил один раз, спускался в подвал, а потом они с папой купались в бассейне, а я носил им вино и разные там закуски. Хромой любит дэвов. Он с ними… дружит. Папа боится хромого. Папа еще называл его… Эмир.
Тут в глазах мальчика зашевелилось что-то, очень похожее на ненависть.
— Эмир, — повторил он, а потом сложил ладони, закрыл в них свое побледневшее лицо.
Я вскочил и быстро зашагал по комнате, а зашевелившийся на полу Юнус прохрипел:
— Ты это… зря ему не веришь! — Я и не думал не верить. — Он точно так же говорил о смерти разным людям, и всякий раз был прав, скотина! Однажды пришел к Рашиду Мансуровичу один старик из кишлака под Аввалыком, дехканин. Его археологи взяли себе в помощь. — Нет, Юнус определенно под кайфом, иначе зачем ему со мной так откровенничать. — Твой дружок-археолог, у которого теперь рожу перекроили, чтоб никто не узнал, того старика взял себе в помощники, потому что старик все окрестности Аввалыка знал как свои пять пальцев. А Эркин взял да и нарисовал того старика. Лежит дехканин… лежит на каком-то камне, а шея, длиннющая такая шея, как у жирафа, вокруг того камня обвита, а камень прямо на его голове лежит!..
«Старого дехканина, случаем, не Исломом звали, а? — подумал я. — Не иначе…» Юнус пошевелился, подогнул колено правой ноги под живот и продолжал, время от времени выплевывая изо рта кровь прямо на пол, а то и на свою рубашку:
— А потом я сам нашел этого старика. Мертвого. Лежал под камнем, башку под себя подогнул, живой так не сможет… Башка вся разбита, шея сломана. Вот тебе и рисунок, бля!
— Дедушка Ислом сам виноват, — вдруг сказал Эркин, — это же не я придумал, что он упадет и очень больно расшибется.
— А эта Ковердейл, певица? — хрипел Юнус. — У Эркина, забери его шайтан, висел ее плакат. А в один день он снял тот плакат и бросил в камин. Плакат сгорел!.. Отец тогда его здорово выпорол, а дня через два сгорела сама Ковердейл — там, в Москве, в какой-то левой квартирке!
— Понятно, — сказал я, — прорицателей никто не любит. Особенно когда все сказанное сбывается, да еще так точно.
Юнус подтянул к животу оба колена, поднял голову с пола и, вытянув шею, прохрипел:
— Я вот что тебе скажу, парень. Не знаю, откуда ты такой взялся, что хочешь делать, но вот тебе мой совет: бросай это дело, уматывай, откуда пришел. Мы тут все конченые, это уж точно. Ты слышал толки о том, будто археологи, вот этот Ламбер с перекроенной харей, выпустили злых духов? Слышал? Конечно, это чушь, в двадцать первом веке в такое верить ну никак нельзя! А вот я верю… Ты там не был, а я был. И видел рожу старика Ислома, которую от страха так перекосило, что я его сразу и не узнал. Это ведь я его обнаружил, и рапорт об обнаружении я писал… Ты не видел кишлака Акдым, где вымерли все жители, сами перебили друг друга, чтобы не доставаться… н-не доставаться…
Лицо Юнуса побелело, ноздри коротко раздулись, и голова его с легким тупым звуком стукнулась об пол. Он снова потерял сознание. Я присел к нему, оттянул веко, глянул на глазное яблоко. Так. Понятно. Я повернулся к Эркину и проговорил: