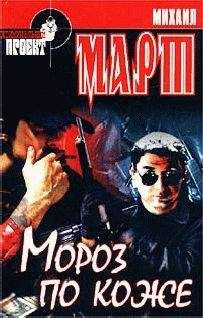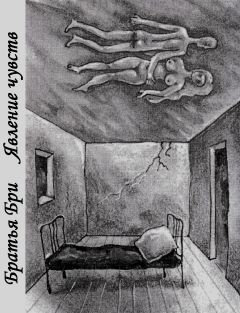Александр Проханов - «Контрас» на глиняных ногах
Оставлял ее у входа в маленькую прокопченную кузню, где пахло углем, и кузнец, встряхивая железистой гривой, раздувал сипящие мехи – выхватывал из горна белую, туманную от жара подкову, кидал на наковальню, и он, Белосельцев, хватал молоток, вливал в удары все свою молодость, удаль, веселье. И она от порога радостно им любовалась.
Подходили к новой, строящейся избе, где по зеленой траве были раскатаны белые, ошкуренные бревна. Плотник, скалясь, с придыханием всаживал в гудящее дерево яркий до синевы топор, отламывал сочные щепы. Белосельцев перенимал у плотника влажное, отшлифованное топорище, вгонял в венец отточенную сталь, выкалывал паз. Брызгал себе на грудь хрустким сосновым крошевом. А она щурилась, любовалась его молодечеством.
Он вкладывал ей в руку узду. Переступая песчаные кочки, она вела под уздцы коня, а он налегал на плуг, выворачивал дерновину, истекая горячим потом, сдувал с лица налипших комаров. Следом, неся лукошко, шествовал маленький кривоногий лесник, сеял летучие семена сосны, а он, ведя борозду, думал, что в память о них через двадцать лет здесь встанет бор, будут скакать белки, кричать голубые сойки.
Он ходил с ней в озеро на рыбные ловы. Она гребла, а он колотил по воде слегой, загоняя рыбу в сеть, поставленную в заливе. Испуганные, как блестящие льдинки, выскакивали из-под его ударов рыбешки. Сеть, которую он вынимал, отекала водой, горела прозрачной пленкой, и в ней, изгибаясь хвостами, висели шершавые окуни, зеркальные язи, красноперые плотвицы. Он кидал рыбин в лодку, и они трещали, трепетали хвостами. Она ахала, спасалась от ледяного рыбьего блеска.
Вечером, когда за темными яблонями тлела тягучая, на всю ночь, заря и паучки за стеклом веранды учиняли баталии, раскачивались на паутинках, стучали в окно, он обнимал ее, целовал ее белевшие в сумраке ноги, и они, утомленные, засыпали под утро, когда на деревне хлопал бич пастуха.
Они разъехались в конце лета, он – в Москву, она – в Ленинград, чтобы снова встретиться и уже не разлучаться. Писали друг другу письма чуть ли не каждый день, потом все реже и реже. Два города, как два огромных, вращающихся в разные стороны колеса закрутили их. Он увлекался ракетами, изучал языки, ездил на полигонные стрельбы. И однажды, в начале ноября, после ее долгого молчания, не находя в почтовом ящике ее очередного письма, вдруг остро, сладко пережил их недавнюю близость, вспомнил запах ее волос, шепот, синий поясок, упавший на пол веранды. Сел в поезд и отправился к ней в Ленинград.
Вечерний предпраздничный город был черным, холодным, с жестокой иллюминацией, от которой хотелось скорее в дом, в тепло. Он застал ее одну. Ее белый, незнакомый, пышный, с отложным воротником свитер. Ее городские, незнакомые запахи. Ее овальное зеркало, перед которым она надевала тяжелые бирюзовые сережки. Он ее целовал, а она отстранялась, смотрела на дверь, словно кого-то ждала. Она увлекла его на вечерний, черно-ветреный Невский, под сиреневые фонари, под которыми мимо желтых витрин бежала толпа, сверкали машины, скакали на Аничковом мосту кони, и ничто не напоминало их милую летнюю веранду, яблоню с теплыми золотыми яблоками. Они шли, почти бежали мимо Казанского собора, Мойки, Александрийской колонны на огромной пустынной площади, у горизонта которой мерцал зеленый дворец. Нева дунула своим черным страшным простором. Набережная мигала робкой иллюминацией, от которой река казалась еще страшней и безбрежней. Мост, по которому они шли, дрожал от трамваев, был желтым от фонарей, натертым фиолетовой ртутью. На реке, по всему ее ветреному простору, стояли военные корабли, очерченные вдоль бортов, по мачтам бриллиантовыми гирляндами. Эскадренные миноносцы, десантные корабли, подводные лодки в ожерельях огней, повешенных на ледяную броню, поразили его красотой и жестокостью. Она остановила его у мокрых поручней, за которыми глубоко внизу струилась и мерцала река. Просила забыть их летнюю любовь, которая была наваждением. Все было чудесно, но все это кончилось. Она вышла замуж за художника, здесь, в Ленинграде, любит его, а их мимолетный псковский роман нужно забыть.
Он смотрел на подводную лодку, словно выжженную на реке автогеном, и чувствовал непомерное горе, невыносимую боль. Понимал, что случилась беда, смерть. Разрушено мироздание, которое он создавал вокруг нее. И эта ночная тревога, которую он вдруг, спустя много лет, ощутил, лежа в гамаке, на военной границе, была запоздалым светом умершей звезды, прилетевшим из потухшей галактики.
Он лежал в гамаке, под старым птичьим гнездом, и ждал, когда по ночным ущельям покатятся рокоты далекой минометной стрельбы. Тогда в свете зарниц вереница молчаливых солдат понесет на себе огромные тюки с оружием – в ложбину, к ручью, по мокрым скользким камням. Углубится и канет в ночь, которая подарит ему, разведчику, драгоценную информацию еще об одной войне, но не пустит в иное, сопредельное бытие, где таится отгадка его жизни и смерти – они так и останутся для него неразгаданными.
Его вторая любовь пришла через несколько лет, когда начинал писать рассказы и очерки, пробовал себя в фотографии и уже открывались подступы его будущей военной профессии, маячила доля разведчика. Она работала в маленьком бюро в Замоскворечье, в хлопотах об артистических выступлениях, литературных вечерах, художественных выставках. Непрерывно звонил телефон. В комнатке то и дело появлялись рассерженные, чванливые или льстиво заискивающие эстрадные звезды, театральные кумиры, робкие дебютанты. Невысокая, белокурая, прелестная, с чудесными ухоженными руками, перламутровым маникюром, окруженная тончайшим ароматом духов, она сидела у окна, в котором очень близко зеленела трава и прямо из травы поднималась кирпичная шатровая колокольня. Он приходил и усаживался в сторонке с глиняной чашкой вкусного чая, который она заваривала для него. Наблюдал, как терпеливо, умно, чуть насмешливо она обходилась с множеством капризных посетителей. В одних сквозило неутоленное честолюбие, в других – окрыленность успехом, в третьих – уныние от затянувшихся неудач, в четвертых – крушение всех надежд. Непрерывная смена персонажей, галерея портретов, которые он из своего уголка не уставал наблюдать.
Вот в последний раз хлопала наружная дверь, кончалась трескотня, суета, и они оставались одни. Она закрывала глаза, откидывалась в кресле назад, говоря: «Боже мой, как я устала!» Он тихо подходил к ней, гладил ее плечи, целовал закрытые глаза, мягкий улыбающийся рот. Она говорила: «Занавесь окно, все Замоскворечье на нас любуется». Они еще немного сидели, иногда распивали бутылку черно-красного сухого вина, которое он приносил, а если была зима, предварительно согревали его. Она разливала вино в глиняные потрескавшиеся чашки, выдавливала в них апельсин, они пили, сидя в разных концах комнаты. Он видел, как начинают золотиться ее глаза. Оставаясь далеко, она приближалась, становилась желанной. Он чувствовал, как касаются его, лишают воли, сладко парализуют золотистые лучи из ее глаз.
Она жила у Смоленской, и их медленный, ленивый путь пролегал мимо шатровой церкви в Кадашах, нежной и хрупкой в зеленом каменном небе с гаснущей зарей и крикливыми зимними галками. «Ударник» напоминал самолетный ангар, из которого на мост вылетали легкие, с хрустальными глазами, существа, мчались по дуге над белой заледенелой рекой к розовому видению Кремля. Вихрь автомобилей у моста каждый раз мешал им перейти. Иногда этот вихрь замирал, остановленный милицейским жезлом, и в Троицкую башню, в проем ворот, проскальзывала узкая, черная, как игла, правительственная машина. «Пашков дом», белый на белой горе, был похож на вазу. Они огибали Манеж с черными кирасами, не торопились, оттягивали, откладывали то, что их ожидало. То, к чему приближались, минуя Арбатскую площадь с «Прагой», напоминавшей кремовый торт, с огненным длинным кристаллом проспекта, куда было вморожено множество сочных рубиновых и белых огней.
Ее маленькая комната, где ему нравилось все: и хрупкий торшер, увешанный брелоками и стекляшками, кровать, застеленная козьим мехом, с крохотной ладанкой в изголовье, огромный толстостенный фужер, который, если плеснуть в него вино и кончиком пальца водить по стеклянному краю, начинал канифольно, подобно виолончели, звучать. За окнами мигала, пульсировал реклама, какой-то неразборчивый, сквозь шторы, вензель, и, когда, утихнув, они лежали, потухшие, реклама не могла успокоиться, пульсировала и мигала.
Часто отсюда, из ее комнатки, с ее напутствиями, он отправлялся в свои путешествия, в свои журналистские рейды, начиная долгий, на целые годы, период полетов, когда турбины неутомимо и мощно носили его из конца в конец по стране, и он, прожигая, пропарывая небо, врывался то в зеленые топи Тюмени, то в огнедышащие пески Каракумов, стараясь обнять воображением и изумленными стеклами фотокамеры образы необъятной страны.