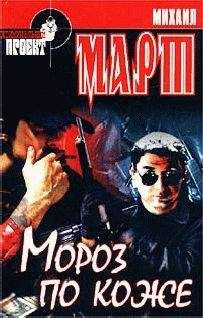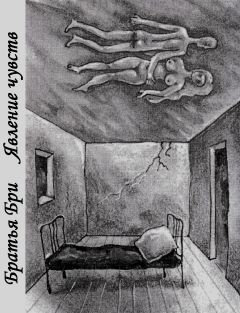Александр Проханов - «Контрас» на глиняных ногах
– Становись! – Молодой военный в пятнистой форме крикнул, перекрывая гам. Вытянул руку, и к этой руке подстраивались, равнялись, подходили люди, теснились, загибались в неровную, похожую на очередь шеренгу. Военный быстро шел вдоль фронта, покрикивая, понукая, выравнивал разношерстный ряд ополченцев.
Маршировали по площади, сбиваясь с ноги, натыкаясь один на другого. Когда раздалась команда: «Шаг на месте!» – передние прекратили движение, а задние продолжали шагать, напирали на головных, и вся колонна сминалась в бестолковую толпу. Офицер сердился, кричал, а крестьяне виновато оправдывались, искали место в шеренге.
За ними ревностно наблюдали женщины. Высматривали своих. Остро переживали их неудачи. Радовались успеху. Кичились одна перед другой:
– А мой-то, мой-то Хуан самый стройный! Я ему рубашку погладила. Красивый он у меня!
– А мой Франсиско, гляди-ка, и хромать перестал! Только чуть-чуть. Он у меня настоящий военный, по команде за стол садится, по команде в постель ложится!
Ребятишки пристроились в хвост колонне, маршировали со всеми. Взволнованные многолюдьем, поскуливали собаки, вились под ногами. Белосельцев последними кадрами простреливал сумерки. Думал: эти крестьяне, еще недавно забитые, теснимые нуждой и поборами безнаказанной свирепой власти, теперь получили оружие, а вместе с ней получили свободу. Как сумеют ею воспользоваться? Как выстоят перед невидимой, неумолимой громадой, что нависла над континентом, посылает на восставший народ самолеты и авианосцы, посыпает огонь революции невидимым пеплом, от которого слепнут глаза прозорливцев, тускнеют речи ораторов, утомляются уши, внимающие стихам Кардинале?
Он уже не снимал, спрятал камеру, когда в темноте начался митинг. На высоком крыльце, освещенном сквозь открытую дверь, возник председатель Эрнесто. Мужчины, женщины, иные с оружим, иные с детьми на руках, стояли тесно. Слушали его жаркую долгую речь, которая, как казалось Белосельцеву, своими рокочущими взлетами и ухающими падениями напоминала контуры гор. Эта неровная, с бурным дыханием речь была о единстве их судеб – их хлебных полей, их могил, их алтарей и винтовок. О защите этих селений, камней, ростков маиса, еще не рожденных детей и слабых, разучившихся ходить стариков. Она была о заветной доле, которую завещал им Сандино, о революции, которая пришла к ним в горы по узкой каменистой дороге и принесла не богатство, не сытость, а пока что одну винтовку, но вместе с ней и свободу. И если наутро случится бой и «контрас» в тринадцатый раз придут к ним в город, чтобы отнять свободу и убить революцию, они сами будут убиты.
Его слушали, жарко дышали. Летели искры из трубок. Начинал вдруг заливисто плакать и тут же смолкал ребенок. Звякал металл. Озарялось от спички чье-то лицо – колючие усы и морщины, зубья пуль на груди. И над всеми среди черных гор серебряно и туманно горела звезда. Белосельцев смотрел на звезду и думал, что его жизнь не случайна. Его пребывание здесь, в этой тесной толпе, в городке, ожидающем штурма, – не случайно. Он копит в себе драгоценный, ему одному предназначенный опыт, который не теперь и не завтра, но непременно воплотится в самый главный в его жизни поступок, в небывалое откровение и чудо, когда его, исполненного любви и прозрения, при жизни возьмут на небо, на эту серебряную, лучистую звезду.
Председателя сменил на крыльце молодой милисиано с красным бантом в петлице. Бережно отложил автомат. Принял от кого-то гитару. Ударяя в негромкие дребезжащие струны, притопывая, запел песню, им самим сочиненную, – про отважный батальон милиции, где люди крепки, как камни, из которых сложен Сан-Педро, и невесты могут гордиться своими женихами, жены – своими мужьями, матери – сыновьями. И пусть, если им того хочется, пожалуют в город «контрас», они отведают не вкус хлеба и вкус вина, а вкус своей собственной крови.
Все вторили песне, кто словами, кто притопыванием и хлопками. Струны под рукой певца натягивались туже, накалялись, грозно гудели в ночи. Выходили другие певцы, и среди них – Ларгоэспаде с девушкой-солдатом, включенной в состав конвоя. Они спели любовную песню. Сержант положил руку на девичье плечо, слегка притянул к себе, и она посмотрела на него счастливо и преданно. Белосельцев изумился – как же раньше он не заметил, что они влюбленные и этого не скрывают.
Начались танцы. Замелькали фонарики, озарили траву и землю. Вынесли и повесили керосиновые красноватые лампы. Танцоры кружились, пламенели платки, стучали башмаки и чеботы. Мелькали солдатские мундиры, вращались, словно карусели, яркие юбки. Среди танцоров кружилась, поднимала хрупкую руку, поправляла красный цветок в волосах девочка с минным осколком во лбу. И над всеми лучилась, блистала серебряная звезда, словно приплыла по небу и встала над городком, посылая ему чудную бессловесную весть.
Председатель вывел из толпы Сесара и Белосельцева, повел к себе в дом. Усадил на открытой веранде, откуда виднелась мощеная улица, слышались перезвоны гитары. В полукруглый проем дверей открывалось убранство дома: очаг, край кровати, два стула. Дочь хозяина в белом платье с мотком голубой пряжи сидела на стуле. Напротив нее – юноша-солдат в камуфляже. Отложил автомат, помогал ей сматывать нить с поднятых, как для молитвы, рук, наращивал голубой клубочек.
Хозяйка, молчаливо-приветливая, накрыла стол. Принесла сковородку с запеченной в маисе свининой. «Накатомаль», – пояснил Сесар название блюда. Хозяин принес бутылку с домашней водкой. «Кукуса, – комментировал Сесар. – Очень крепкая». Наполнили стаканчики. Председатель – серьезный, торжественный – поднял стакан:
– За вас, Виктор, за то, что вы к нам приехали. Работаете вместе с нами. Когда вернетесь в Москву, расскажите, как мы живем, как отражаем гринго. Скажите своим: если гринго захотят пройти на Москву через Сан-Педро-дель-Норте, мы их не пропустим. Здесь мы их будем держать… За вас!..
Они выпили обжигающе сладкую водку, вспыхнувшую в Белосельцеве мгновенным хмелем. Обострившимся зрением он вдруг углядел на стене, над головой председателя, три пулевые дыры. Голубой клубочек крутился в руках у солдата. Легкий, светящийся жар окружал голову девушки. Три пулевых отверстия с отпавшей штукатуркой вдруг показались ангелами на иконе Троицы. Это сходство продолжалось мгновение, и он почувствовал, как пьянеет.
Следующий тост был за Сесаром. Он осторожно поднял мерцавший стаканчик. Выпрямился, возвысившись над столом:
– Все эти дни, с нашей первой встречи, я смотрю на тебя, Виктор. – Он впервые назвал Белосельцева на «ты», и в этом была виноваты огненная кукуса, день, проведенный среди окопов, накануне штурма, а еще приплывшая по небу серебряная звезда. – Помню, как ты кинулся с фотоаппаратом к сбитому горящему самолету. Я боялся, что ты подорвешься на боекомплекте, а ты все щелкал и щелкал. Помню, как ты рисковал в Гуасауле, под прицелом, и как вывихнул плечо, осматривая окоп. Ты не ушел с палубы, когда шел бой с гондурасским катером, и выставил свой аппарат навстречу вертолету гринго, и тот, наверное, подумал, что это новое оружие, и улетел. Ты отважно действовал на пожаре вместе со всем народом, будто это горел твой дом. Ты мне очень по сердцу, Виктор. Ты настоящий солдат, настоящий военный. Я бы взял тебя в наш партизанский отряд в Матагальпе, взял бы на любую операцию. Ты – боец. За тебя!..
Вторая чарка полыхнула чистой вспышкой прозрения, благодарностью к ним и любовью. И чем-то еще, связанным с голубым вещим клубочком, что сматывался с белых девичьих рук смуглыми руками солдата. И со вчерашней ночью, когда его посетила чудесная женщина, одарив видением волшебных городов и деревьев.
– Было время, когда революция жила в Европе. – Сесар тронул его за локоть, требуя внимания. – Революция победила в России, в Чехословакии, в Болгарии. Потом она переселилась в Азию, победила в Китае, Вьетнаме. Потом пошла гулять в Африку – в Анголу, в Мозамбик, в Эфиопию. А теперь пришла к нам, в Латинскую Америку – Куба, Никарагуа, Сальвадор. И здесь ей хорошо. Здесь мы нанесем гринго самое главное поражение. Сюда, в Никарагуа, должны приехать добровольцы со всего мира, как в Испанию. Если бы потребовалась моя помощь, моя жизнь в любом месте, в любой стране, где народ взял винтовку свободы, я бы тотчас приехал. Мне не важно, где жить, где сражаться, лишь бы за революцию…
Третий тост был за Белосельцевым. Он поднял прозрачную чарку. Стоял, чувствуя, как сладостно опьянел, как исполнен нежности к ним и любви, и нужно лишь малое усилие, чтобы пули, ударившие в стену, превратились в икону, а синий клубочек покатился по траве, и девушка, и солдат, и тетушка Кармен, потерявшая сына, и учительница, обучающая детей под обстрелом, и Ларгоэспаде с возлюбленной, и председатель Эрнесто, и Сесар, и жена его Росалия, и Валентина, которая так ему дорога, и он сам – все вместе они пошли за клубочком, за серебряной Вифлеемской звездой, туда, где нет смерти.