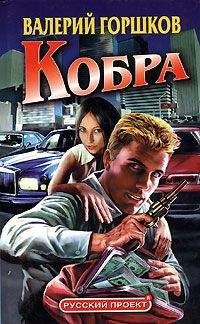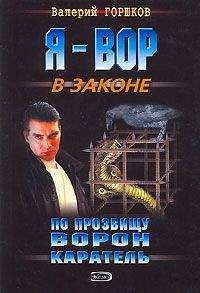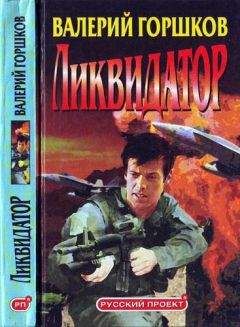Валерий Горшков - Принц воров
Группа сотрудников НКВД выехала по указанному адресу в Ленинграде, однако не нашла ни Антонова, ни ценностей, которые генерал успел вывезти из Дрезденской галереи и передать сообщнику. Более эти картины никто не видел. Ни в одной из частных коллекций, как сотрудники НКВД ни старались, их не обнаружили. Агентура стыдливо прятала глаза, искусствоведы жалобно вздыхали. Оценщики боялись вслух назвать сумму предметов, исчезнувших из Дрезденской галереи.
Генерал Пускарев повесился в камере через два часа после того, как сообщил имя советника посольства.
Сотрудник посольства оказался пешкой в большой игре. Он не смог дать никаких показаний относительно того, кто был следующим звеном между Пускаревым и Антоновым. Он лишь отправлял раритеты дипломатической почтой в СССР. Имя человека, которому уже в Москве передавалась почта (груз, доходивший порой до тридцати-пятидесяти килограммов), атташе не знал.
Проверили. Груз получал генерал Завадский, сотрудник посольства. Но выяснилось, что через сутки после того, как был взят советник посольства в Берлине, и через два часа после того, как был арестован генерал Пускарев, с другим генералом, Завадским, произошла трагическая неприятность. У самого дома в Москве, где он проживал с семьей, его сбил грузовик АМО. Найти истинного виновника смерти генерала Завадского не удалось, поскольку выяснилось — АМО был угнан от хлебозавода на Оленьей улице за полчаса до дорожного происшествия.
Военной разведке СССР оставалось лишь ждать и верить в то, что когда-нибудь, где-нибудь, возможно, развлекаясь со шлюхой в какой-нибудь гостинице, пьяненький клиент признается в том, что несколько лет назад брат его друга, троюродного племянника внука Пети Иванова, продал коллекционеру из Осло картину Рубенса «Охота на кентавров». Одну из тех, что исчезли вместе с именем связующего звена в цепи «Пускарев — … — Антонов». Вот только тогда появится возможность начать операцию, позволяющую такому могущественному ведомству, как военная разведка, разыскать и преступников, и похищенное…
Странное дело, но при всем том броуновском движении, что царило в двухэтажном особняке, редко можно было услышать хотя бы слово, а если таковое и произносилось, то разобрать его и понять смысл мог только тот, кому оно было предназначено.
— Наверх по лестнице, — миролюбиво приказал старшой, остывший, видимо, за то время, что они ехали. — Наверх и направо, в коридор.
— Откуда здесь столько антиквариата? — поинтересовался Корсак, прикидывая на глаз, сколько людей находится на первом этаже.
— От верблюда, — ответ был такой же миролюбивый.
— А ты верблюда-то видел? — продолжал спрашивать Корсак, насчитав семерых.
— Видел, дружок, видел. Семь лет под Ташкентом камни дробил.
Сколько людей Святого находилось на первом этаже, в комнатах за резными дверями, увидеть было не суждено. Не знал он и сколько их было наверху. При всем этом незнании ему было совершенно ясно главное — теперь бежать будет очень трудно. Что ждало его впереди, Слава знать не мог. Не исключал он и того, что придется вступить в схватку. Вместе с этим понимал — это безумие. Находиться в улье с вооруженными до зубов бандитами и лелеять мысль о благополучном исходе схватки мог только безумец. А потому, пересчитывая затылки и старательно загибая пальцы на руках, он действовал скорее по привычке, нежели из желания просчитать свои дальнейшие действия.
Зачем ершиться, Корсак, если в руках этих людей твоя жена и сын?
Когда до последней комнаты оставалось не больше трех шагов, старшой крепко взял Славу за локоть.
— Извини, старик, на всякий случай. — И ловкими руками вора-карманника провел вдоль тела своего пленника.
— В машину когда усаживал, проверял, — напомнил Слава.
— В машину — проверял, — равнодушно согласился тот, чьего имени или прозвища Корсак так до сих пор и не услышал. — А из машины вывел — не проверял. Вот точно так же я срезался с конвоя, когда меня везли на славный «Беломорканал». Нашел в кузове кусок проволоки и всадил в глаз конвоиру.
Легкий толчок в спину дал Корсаку понять, что путь свободен.
Дверь отворилась, и в ноздри Славе тут же ударил тяжелый запах пропитанных зловонным потом простыней, йода и еще какой-то химии, не быть которой рядом с постелью умирающего просто не могло. У стены, под окном, стояла кровать с кованными еще при Николае, наверное, спинками, вокруг нее стояло и сидело на стульях трое. Доктора Корсак в расчет не брал, тот был здесь человеком своим, но приходящим. Он, в белом халате, набирал в шприц какую-то прозрачную жидкость, и его совершенно не интересовало, кто пришел, кто ушел, казалось, он не удивился бы, если сейчас ему сообщили, что немцы снова поперли на Москву.
Едва Слава вошел, мужчина, лежащий на кровати, повернул к нему голову, и Корсак с трудом — он ни за что не узнал бы его сейчас, не сообщи ему заранее, что Святой умирает, — узнал своего отца. Биологического отца, вернее было бы сказать, потому что ничего, кроме одного-единственного носителя генной информации, попавшего в цель тридцать с лишним лет тому назад, Корсака с ним не связывало.
Славе не раз приходилось видеть, как угасает человеческий взгляд перед смертью. С каждой минутой приближения смерти он становится все менее и менее ярок. Глаза становятся безразличными к окружающему и уже не реагируют на раздражители, которые еще месяц назад заставили бы зажмуриться или просто моргнуть.
— Ярослав… — скорее прочел по губам Святого, чем услышал его голос, Корсак.
И что-то… шевельнулось в нем, заставив растечься внутри странному, необъяснимому теплу. По мере распространения этого загадочного тепла Слава чувствовал, как заражается еще одним, странным и совершенно уж необъяснимым чувством к этому человеку. Кажется, это была жалость…
Приблизившись, Слава положил руку на плечо одного из сидящих перед одром Святого бандита и довольно бесцеремонно отодвинул его.
— Я боялся, — тихо проговорил Святой, и было видно, с каким трудом дается ему каждое слово, — что они не успеют или ты им не дашься… — на губах его промелькнула — не может быть! — улыбка! — Значит, все-таки у них получилось…
— У них получилось только потому, что наверху были моя жена и сын.
— С ними все будет в порядке, — поспешил пообещать, опережая очередной приступ боли, пан Тадеуш. — Не волнуйся, сынок…
— Он завалил Крола, — сообщил тот, кто под напором сильной Славиной руки вынужден был встать.
Информация шла по этому дому быстрее людей. Корсак всего на минуту задержался по воле ведущего у одной из дверей, и этой минуты хватило, чтобы о подробностях захвата узнали все, кому такая информация интересна.
— Крол уже давно напрашивался, — поморщился то ли от боли, то ли от гнева Святой и сделал знак, чтобы ему приподняли подушку.
— У Самосада губа разорвана, — добавил тот, что привел Корсака.
— Помнишь, в прошлом году я ему обещал пасть порвать? — терпеливо ожидая, как лекарство перейдет из шприца в вену, напомнил пан Тадеуш забывчивому подручному. — Как удивительно получилось… У меня руки не дошли, сын добрался… Сейчас пошли все вон. Остались Червонец и Крюк, — приказал Святой, не отрывая взгляда от Корсака. Он смотрел на него так, как смотрят в последний раз на человека, расставание с которым невыносимо.
Слава огляделся. В комнате, из которой вышел даже врач, помимо него задержались двое — тот, что сидел на стуле, и тот, что привел его к умирающему вору. Осталось малое — понять, кто из них Червонец. Бандит назвал это имя первым, и нет сомнений в том, что именно Червонец играет главенствующую роль в банде после Святого. Нетрудно догадаться, кого объявят королем после смерти короля.
— Я хочу уйти, вернув всем долги, — проговорил наконец Святой, мучаясь от необходимости двигать в пересохшем рту сухим языком. Корсак уже давно приметил проступившую сквозь одеяло и простыню розовую влагу. Если ориентироваться по месту ее нахождения, то любому, кто хотя бы раз видел огнестрельное ранение и его симптомы, стало бы ясно, куда угодила пуля. Святому не дают пить, и он, мучаясь от жажды, не просит воды. Стоит раненному в живот выпить стакан воды, его тут же скорчит от боли и смерть приблизится, положив ледяную костлявую руку на его лоб. Святому же нужно выговориться, и он терпит, стараясь забыть и о жажде, и о боли. Боль, впрочем, после укола ушла и затаилась. Взгляд Святого приобрел блеск, зрачки чуть уменьшились в размерах.
Слава понял, что все то время, пока бандит его ждал, он принимал наркотик. Морфий это был или нечто другое, заставляющее боль утихнуть, неизвестно, но то, как мужественно вел себя этот отвратительнейший из людей, вызывало в Корсаке известную долю уважения.
— На погост, как и в «крытку», с долгами нельзя, — объяснил Святой скорее для Корсака, чем для приближенных.