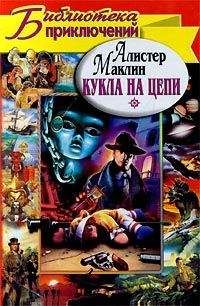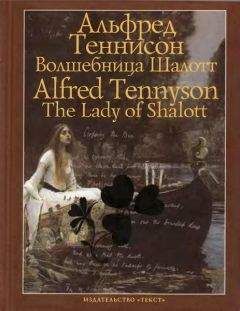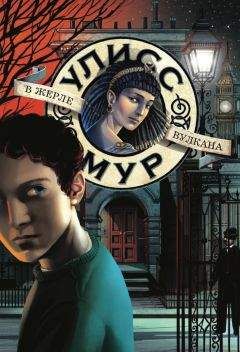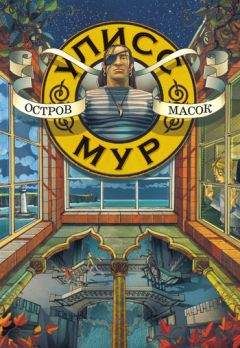Анатолий Афанасьев - Монстр сдох
"Нам кажется умным тот человек, который думает так же, как мы".
— Проще говоря, — сказал Гурко, — вы предлагаете замочить супостата?
— Естественно, — отозвался Захарчук. — "А что тут особенного?
— Забыл спросить, Буга Акимович, кто дал вам мой телефон?
— Один ваш бывший коллега. Он просил не упоминать его фамилию.
— Почему?
— Считает, вы плохо к нему относитесь. Принимаете за предателя.
— Ах, так это Саня Загоруйко. — вспомнил Гурко. — Вы же вместе работали в «Македонце». На самом деле он никакой не предатель, так?
— В этом смысле все мы немного предатели. Во всяком случае я ничем не лучше Сани. Любая работа имеет свою цену. И с Самариным тоже.
— Бесплатно не рискнули бы?
Захарчук ответил после недолгого размышления.
— Думаю, рискнул бы.
— Даже в одиночку?
— Понимаю, глупо, но попробовал бы.
У Гурко потемнело на сердце, будто, заплутав в пустыне, повстречал такого же незадачливого путника, но с полной канистрой воды.
— Вы мне нравитесь, Захарчук, — сказал искренне. — Я готов сотрудничать, но только на моих условиях.
— Слушаю внимательно.
Гурко перечислил, чем должен заняться Буга в ближайшее время. Внедрить в банк человека, которого он подошлет утром. Но не в охрану, а в структуру, причем так, чтобы ни Сумской, ни, упаси Бог, Кривошеев не знали про подставку. Буга задумался.
— Возможно ли?
— Как родственника, — подсказал Гурко.
— Сделаю. Но хорошо бы…
— Человек с экономическим образованием, — успокоил Гурко. — С работой справится. В перспективе — подменит Семена Гаратовича. Старику тоже надо когда-то отдохнуть, верно?
— Понятно, — кивнул Буга, хотя на самом деле понял только то, что помощь Гурко, возможно, обойдется ему дороже, чем он предполагал.
— Второе: Агата. Подсуньте ей справного кобелька.
Чтобы до печенок прожег. Есть у вас такой на примете — пожалуйста. Нет — дам своего. Но надо такого, чтобы на ходу подметки резал. И не только в постели.
— Обученного нет, — сказал Захарчук. — Присылайте.
— Теперь главное: никакой самодеятельности. В направлении фигуранта ни одного шага без согласования.
Это очень важно. Охраняйте банкира — и баста. Вы и так далеко зашли.
— Выходит, сажусь на поводок? — хмуро бросил Захарчук.
— Выходит, так. Но иначе нельзя.
На аллею забрела группа молодых людей — парни и девушки в кожанах и длиннополых пальто. Веселая, пестрая, жизнерадостная стайка — шли, как пыль со стола стирали. В руках транзисторы, пивные банки, сигареты. Окрестность тихих прудов взорвалась адской мешаниной музыки, визга, хохота и отборного мата. Захарчук будто проснулся: почти стемнело.
— Разрешите посторонний вопрос, Олег Андреевич?
— Спрашивайте, Буга Акимович.
— Если, допустим, перебить их одного за другим, что-нибудь от этого изменится?
— Изменится, конечно, — подтвердил Гурко. — Но вряд ли при нашей жизни.
На скамейке просидели час с лишком, а Буге показалось, минуты не прошло.
Глава 3
АГАТА ЛЮБИТ, КАК УМЕЕТ
Что с ней вытворял старик — уму непостижимо. Сажал на костяные, худые коленки, кормил с ложечки смородиной в сахаре, потом слизывал приторный сок с губ. Язык у него шершавый, ласковый, изо рта тянуло морскими водорослями, как ото всей Цхалтубы. Совал ей в рот жилистый палец, озабоченно копался, горестно приговаривая:
— Ах, зубик у девочки расшатался, сейчас вырвем зубик.
Тут же, не успевала опомниться, влетали в спальню санитары в белых халатах, приматывали к высокому креслу веревками, ноги разводили шире Китайского проезда.
— Ой! — вопила Агата, приходя в натуральный ужас. — Да не там же зубик, где вы ищете!
— Молчи, засранка! — люто обрывал старик, сноровисто устраивался, ухватывал пальцами наугад ее зубы и начинал раскачивать, дергать голову, будто собрался оторвать. Она успевала кончить разок, а старик натурально еще не приступал. У него подготовительный период иногда затягивался на два-три часа, это было изумительно.
— Помогите! — кричал старик. — Не справлюсь. Ей же больно. Не видите, что ли, мудаки!
Санитары сбрасывали с туш халаты, отрывали ее от кресла, валили на пол, месили, выворачивали наизнанку, ухитрялись войти во все дырки, а старик, бранясь, продолжал толчок за толчком отрывать голову, пока она наконец не погружалась в абсолютный, разрывающий в клочья оргазм и не уплывала в белое безмолвие.
Такого умопомрачения с ней еще не бывало. Полное подчинение чужому изощренному естеству, воплощенному в семидесятилетнем божке. Она впервые изведала сладость безропотного подчинения — это было ни с чем не сравнимо.
Прежде ее звали Нина Боброва и родилась она в бедной семье. Отец рано сошел в могилу (ей пяти не было), причем умер диковинной смертью: на спор осушил залпом бутылку свекольного самогона, зажевал маринованным огурчиком, но вслед натуральному продукту пустил баночку тройного одеколона, и к утру мирно отдал Богу душу, успев завещать безутешной жене, чтобы никогда не мешала одно с другим. Девочка долго смотрела на труп отца. К живому не испытывала любви, но мертвый он ей понравился, потому что стал похож на глиняную куклу в песочнице, только большого размера. Она спросила у мамы:
— Папа заболел, да?
— Ужрался вусмерть, прохиндей, — ответила мама с какой-то непонятной, печальной улыбкой.
Потом в квартире собралось много людей, Нину отвели к соседям, больше она отца никогда не видела. Ни в детстве, ни став взрослой девушкой она не ощутила, что в тот день в ее жизни произошла важная утрата.
Она росла робким задумчивым ребенком, боялась, как мышка-норушка, высунуть носик дальше двери, и матушка огорченно прикидывала, что при таком характере вероятнее всего придется девочке повторить ее трудный путь прачки-надомницы, и не суждено окунуться в ослепительное великолепие мира, льющееся из телевизора. Но опасения оказались напрасны. После того, как в тринадцать лет Ниночка лишилась невинности, всю задумчивость с нее как рукой сняло. Она сделала осознанный выбор и поняла, что он единственно верный. Зарево свободы и повсеместного рынка еще туманилось за горизонтом, еще среди девочек в ходу были мечты о крепкой семье и добром нежном муже, а мальчики устремлялись помыслами в космические дали, но Нина природным чутьем угадала, что недалеко то время, когда самой желанной, заманчивой долей для женщины станет судьба проститутки, ночной феи, путаны; а молодые люди, все как один, обернутся бандюками, бизнесменами, менеджерами, брокерами, гомиками, челноками и — самое заветное, только для избранных! — высокооплачиваемыми, могущественными киллерами. Наступала счастливая эра дележки накопленных предками богатств.
Матушка Нины Бобровой, миловидная женщина с очарованной душой, большая любительница всего сладенького, остренького и крепенького, по русской привычке верная памяти нелюбимого мужа, впоследствии выбирала в сожители исключительно пропойц, бомжей и милиционеров. Один из них, рыжий дядька Капитон, как раз пригодился Нине для того, чтобы избавиться от утомительной докуки девичества. Он ей понравился больше других материных недолгих постояльцев — огромный, волосатый, шебутной, с добрыми наивными глазками и с конфетой в руке. Он никогда не забывал припасти для несчастной сиротки сладкий гостинец, а это дорогого стоит, если учесть, что дядька Капитон был не из тех, кто шикует. Денежки промышлял тем, что собирал пустую тару в людных местах, и ему всегда хватало на полный бутылец, пару плавленных сырков, батон хлеба и незатейливый букетик цветов для зазнобы. Этими сморщенными лютиками да незабудками он полонил сердце податливой вдовы и перебивался у них в доме значительно дольше других, чуть ли не целых полгода. Он одинаково любил и мать, и дочь, и сетовал, что, если бы не пагубная страсть к водяре, устроил бы им такую жизнь, которая им и не снилась. Что это значит, объяснял лишь намеками, поминая о брательнике, который живет в совхозе Джемете под Анапой, имеет дом, сад, собственную машину, трактор, два велосипеда, скаковую лошадь, пасеку, полный двор домашней птицы — г! купается в солнце, фруктах и деньгах, как какой-нибудь турецкий султан. Много позже, когда Нина размышляла, почему мужчины, вившиеся вокруг ее матушки густым роем, никогда не задерживались, а проходили мимо, как тени, то склонялась к выводу, что одна из причин была в том, что ее бесценная матушка была круглой идиоткой и слепо верила всем бредням, которые ей накручивали на уши. Мужчина, как правило, сильно пугается, если видит, что его сказки принимают всерьез. В нем срабатывает инстинкт самосохранения, и он бежит сломя голову, куда глаза глядят. Чрезмерная доверчивость действует на чувства мужчины так же разрушительно, как удар молнии на незаземленный деревянный домик.