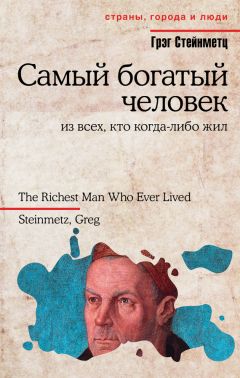Александр Бушков - Пиранья. Жизнь длиннее смерти
До них было совсем недалеко, до передних рядов, и он отчетливо видел лица. С тем самым выражением, что давным-давно перестало его изумлять или задевать: ни радости, ни враждебности, вообще никаких эмоций, прозрачные глаза существ не от мира сего, с начала времен смотревших так на все перемены и новшества, привезенные из больших городов…
На миг ему стало отчего-то страшно, хотя ничего пугающего вокруг не имелось. Наоборот, все и в самом деле выглядело крайне торжественно: новехонькая школа, сиявшая свежевымытыми окнами, трибуна, сколоченная из неведомо где раздобытых в песчаной стране досок, украшенных лозунгами, плакатами и портретами (особую пикантность картине придавало то, что Лейла стояла тут же, над своим портретом); оркестр, во всю ивановскую наяривавший революционные марши; знамена и лозунги над толпой, огромная клумба – опять-таки портрет генерала Касема, с поразительным искусством составленный из розовых, синих и желтых цветов…
И с безопасностью обстояло как нельзя лучше. Здесь, в гнезде промышленного пролетариата, как оказалось, был расквартирован народогвардейский батальон усиленного состава – и означенные народогвардейцы стояли группами повсюду, бдительно следя за облагодетельствованным школой народом. Вот разве что горы Мазура чуточку беспокоили – высокие, голые, подступавшие с востока к городку чуть ли не вплотную. Но он сразу по приезде отправил туда тройку своих – а уж от его ребят не укрылась бы ни возможная огневая позиция, ни супостат, вздумавший бы туда мимо спецназовцев проскользнуть…
Так что со служебной точки зрения все было в полном порядке. Ну, а мысли Мазура при взгляде на лица в толпе проходили по ведомству излишней и даже, быть может, идеологически невыдержанной лирики, которую следовало держать при себе…
Лаврик тоже, судя по нему, был в самом благодушном настроении. Стоя рядом с Мазуром неподалеку от трибуны, пользуясь тем, что патетические завывания оркестра заглушали все остальное, он мурлыкал под нос с самым серьезным видом:
– Ура, товарищ угнетенный,
уж рабства нету на земле.
Семен Михайлович Буденный
скакал на рыжем кобыле…
Мазур давно его знал и догадывался, что Лаврик эту белиберду не сам придумал. Была у особиста такая безобидная страстишка – выкапывать неведомо откуда давным-давно забытые агитационные песни и частушки…
Оркестр смолк, и Мазур собственными глазами увидел натуральнейшее чудо.
Товарищ Федор Николаевич Хоменко, посланец далекого ЦК, вышел на трибуну трезвехоньким. Всего четверть часа назад Мазур видел собственными глазами, как он лежал на заднем сиденье лимузина в столь печальном виде, что краше в гроб кладут – и трясущимися руками пытался протолкнуть в глотку не глоток, а стакан водки сразу. Никак это не получалось у высокого гостя, всем, кто его видел, было совершенно ясно, что через минутку он либо умрет с дичайшего похмелья, либо заблюет польский лимузин…
Сейчас же в двух шагах от Мазура вальяжно прошел к ведущим на трибуну ступенькам другой человек – двигавшийся абсолютно непринужденно, строго по прямой, без малейших пошатываний, и лицо у него было соответствующее: ни тени красноты, похмельности, помятости. Хоть икону с него пиши, хоть картину с идеологически мудрым названием…
Неузнаваем был товарищ Хоменко – трезв, авторитетен, представителен, бодр, свеж, светел… У Мазура слюна к горлу подошла от зависти – вот это школа, вот это понимание момента…
Оглядев собравшихся, значительно откашлявшись, товарищ Хоменко хорошо поставленным голосом возгласил:
– Товарищи! В свете последних постановлений Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и указаний лично товарища Леонида Ильича Брежнева, осуществляя принятую высшим партийным форумом программу интернациональной помощи братским народам, решительно вступившим на путь социалистических преобразований…
Другой динамик тоже ожил, и переводчик из местных принялся чеканить по-арабски то же самое. Уж его-то голосу недоставало поставленности и митинговой меди, как ни старался…
Показалось, что это тянется бесконечно. Стояла одуряющая жара, но толпа казалась неподвижной, как группа монументов. Как бы долго ни распространялся товарищ Хоменко, но пришла пора и ему умолкнуть. К микрофону подошла Лейла, знакомо взмахнула рукой – и вновь, как в прошлый раз, когда Мазур видел ее на митинге, принялась самозабвенно жечь глаголом сердца земляков – с раскрасневшимися щеками, разметавшимися волосами, очаровательная и несгибаемая, валькирия революции из аравийских песков…
Мазур пропустил миг.
Услышав нечто вроде многоголосого оханья, увидев, как толпа колыхнулась, зашевелилась, словно вскипающий прибой, он сначала перебросил все внимание туда, подхватив висевший до того на ремне автомат, привычно попытался высмотреть цель, источник, возможный эпицентр.
А потом он увидел, что Лаврик, вывернув шею, остолбенело таращится через его плечо на трибуну. И сам обернулся туда.
Лейла уже падала, подламываясь в коленках, и на груди слева медленно расплывалось темное пятно, а изо рта толчками выплескивалась ярко-алая кровь, и стоявшие рядом оторопели настолько, что никто сначала не пытался ее подхватить… И тут же она исчезла за широким, растянутым по гребню трибуны плакатом. Упала.
Выстрела Мазур не слышал. А новых не последовало.
Еще через пару секунд все пришло в движение – в хаос, точнее говоря. Метались народогвардейцы, целя во все стороны автоматами, ожидая подвоха и нападения со всех сторон света, товарищ Хоменко, оторопело глядя себе под ноги, махая кулаком, отдавал оглушительно громкие, насквозь идиотские приказы, на трибуне возникла суета, бежали куда-то, во всех направлениях, оскаленные черноберетчики, опомнившийся Лаврик одним прыжком оказался на трибуне и бесцеремонно, за шиворот, стащил оттуда «охраняемое лицо», озираясь со «Стечкиным» наготове… Люди разбегались, бросая знамена и лозунги, повинуясь древнему, как мир, инстинкту – вмиг оказаться как можно дальше от нехороших сложностей жизни.
Мазур видел, как его ребята, прилежно ощетинясь стволами, сомкнулись вокруг Лаврика, тащившего товарища из ЦК к лимузину, под защиту прикрывавших машину с двух сторон броневиков. Видел, как Ганим орет что-то яростное, паля в воздух.
А сам никак не мог двинуться с места. Так и стоял посреди бессмысленной беготни, панических воплей и стрельбы, гремевшей со всех сторон. В душе у него была совершеннейшая пустота. «Сплошные потери, – повторял он, как заведенный. – Сплошные потери. Не везет мне с женщинами, не везет мне…»
К трибуне опрометью несся врач – местный, в натянутом кое-как белом халате, зачем-то на бегу вставлявший в уши блестящие трубочки стетоскопа, как будто это занятие имело какой-то смысл.
Тут только Мазур смог двигаться и рассуждать, побежал следом. Протолкался сквозь невеликую толпу. Ему хватило одного профессионального взгляда, чтобы оценить ситуацию: винтовка, входное на спине против сердца, выходное на груди, все кончено…
Ее лицо было белое и совершенно спокойное – ни удивления, ни боли. Вполне возможно, она попросту не успела ничего понять. Быть может, так даже лучше… Так, конечно, лучше.
Минут через десять появился Викинг – а за ним Бульдозер с Крошкой Пашей тащили кого-то, бывшего человека. Через плечо у Викинга была перекинута длинная тяжелая винтовка – британский «Ли-Энфилд» образца одна тысяча восемьсот девяносто пятого года, безотказная при хорошем уходе дура, прицельно бившая более чем на три километра. Мазур машинально подумал: не только англичане из нее лупили, когда-то и буры перестреляли кучу британцев, так что винтовку эту прозвали «бур»…
Убитого положили тут же, и Викинг, косясь на трибуну, прилежно доложил, что они сделали все возможное… Мимо них этот гад ни за что не мог бы проскользнуть, значит, скорее всего, прятался на позиции загодя. Быть может, еще ночью засел. Карманы…
В карманах отыскалась всякая неинтересная дребедень – и целая пачка фотографий Лейлы. Хороших, четких снимков на дорогой бумаге, сделанных явно не в зачуханной мастерской рыночного фотографа. На некоторых Лейла была совсем молоденькая – без сомнения, дореволюционные времена. Это только для Мазура «дореволюционные времена» звучали седой древностью, а здесь они означали всего-то пару-тройку лет…
Перебирая фотографии – механически, отрешенно, ничего не видя и не слыша вокруг от тоски и боли – он подумал, что Джараб, волк пустынный, оказался кругом прав.
Отец ее все-таки достал.
Глава седьмая
Развод по-аравийски
К небольшому аккуратному особнячку за высокой стеной, полное впечатление, приложил в свое время руку заезжий европейский архитектор – Мазур не усмотрел в нем ни капли местного колорита, вообще ничего восточного. Разве что окна великоваты для европейских домов – а в остальном очень скучное строеньице.