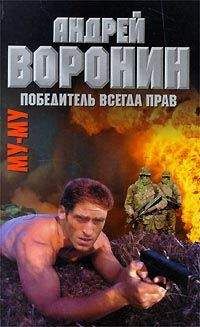Анатолий Афанасьев - Радуйся, пока живой
— Что вы, Догмат Юрьевич, мне так хорошо, так чудесно. Спасибо вам за все!
— Да за что же спасибо, не за что. Мы же врачи, даем клятву, спасаем людей. Первый завет: не навреди. Попала ты к нам, не скрою, в запущенном состоянии, можно сказать, в невменяемом. Буйство, галлюцинации, бред. Медбрата покалечила, еле его откачали… Зато теперь совсем другое дело: глазки вон блестят, личико свежее, грудки торчат… — Догмат Юрьевич шаловливо помял ее груди и Лиза жеманно захихикала:
— Ой, щекотно, дяденька Догмат!
— Еще бы не щекотно… Скажи, дитя, чего бы ты сейчас хотела? Подумай, осталось у тебя какое-нибудь сильное желание?
Лиза поглядела недоуменно.
— О чем вы? Не понимаю.
— Может быть, покушать сладенького? Или выпить винца? Или погулять по улице? Или мальчика крепенького тебе дать?
— Как скажете, Догмат Юрьевич, но мне и так хорошо. Безо всего этого.
Психиатр Сусайло огорчился. Ему не о чем докладывать наверх. Опыт, в сущности, не удался, и хуже всего — по непонятной причине. Точнее, о том, что опыт не удался, Догмат Юрьевич только догадывался. Из строптивой девицы слепили зомби, это нетрудно при нынешних возможностях психиатрии, но не в том цель эксперимента. Глубинная вспашка подсознания не дала обычных результатов. Примитивное существо, которое податливо трепетало под его пальцами, все же не раскупорилось до дна. Объяснений такому феномену могло быть лишь два: либо поганка в самом начале сумела заблокировать сокровенные глубины подсознания таким образом, что туда не проникал психотропный скальпель; либо они вытянули пустышку и никакого другого дна, кроме этого, куда ее опустили, в ней нет. В первом случае следовало допустить, что светловолосая курочка владела средствами психологической защиты на уровне индусских брахманов, что само по себе нелепо, против второй версии (пустышка!) восставал весь его профессиональный и житейский опыт. Пустышке не хватило бы ума, чтобы сунуться к другому зомби, племяннику президента со своим наглым интервью. Да и отбитые яйца Сереги Кныша говорили о многом.
— Так и не вспомнила, кто ты такая? — с надеждой, в сотый раз спросил психиатр.
— Я простая девушка из Филадельфии, — озорно улыбнулась Лиза, — Зовут меня Элен Драйвер. Кто же я еще?
Еще одна ложь, свидетельствующая о глухой блокировке. Проверка показала, что в Си-Би-Эн действительно есть сотрудница с таким именем, но ей сорок пять лет и вдобавок она лежит в наркологической клинике в Техасе. Фотографию той, настоящей Драйвер пока заполучить не удалось, но вряд ли это что-нибудь изменит. Трудно предположить, что молоденькая авантюристка и та пожилая алкоголичка окажутся одним лицом. Хотя полностью исключать этого нельзя, чудеса бывают, психиатр Сусайло в них верил. Еще и не такие бывают чудеса.
— И зачем тебе понадобился Попрыгунчик? — уже по инерции поинтересовался он.
— Для Пулитцеровской премии, — девица смущенно потупилась, будто устыдясь столь невероятной претензии. Похоже, легенда закодирована в ее височных долях так прочно, что изъять ее оттуда можно разве что вместе со всей черепушкоЙ.
— Что ж, — смирился с поражением Догмат Юрьевич. — Собирайся, деточка… Где твоя одежда?
— Моя одежда в гардеробе.
— Ну так встань и оденься.
— Куда мы пойдем? — Лиза оробела. — Ведь все процедуры можно делать здесь.
— С процедурами покончено, хватит. Поедешь домой.
— Домой?
— Что тебя удивляет? Где твой дом?
Глаза девушки увлажнились.
— Мой дом далеко, за океаном… Как же я?..
— Ничего, доберешься. Близкие, небось, с ума сходят, куда ты запропастилась.
— У меня нет близких, кроме вас, — тихо сказала Лиза. — Я в чем-нибудь провинилась? Почему вы меня прогоняете?
Психиатр с трудом удержался, чтобы не отвесить лживой бестии плюху. Но это они уже проходили. После малейшего физического нажима притворщица впадала в полноценную кому, из которой ее приходилось выводить иногда по нескольку часов.
— Встать! Одеваться! — рявкнул Сусайло. Лиза, трясясь от страха, соскочила с кровати, поспешно вытащила из шкафа приготовленную для нее одежонку — трусики, брюки и толстый шерстяной свитер — и попыталась натянуть ее прямо на ночную рубашку. У нее не получилось — и она горько разрыдалась. Психиатр сжалился, помог ей переодеться. Лиза утробно покряхтывала в его опытных лапах, льнула к нему. Догмат Юрьевич и сам в ответ возбудился, но совладал с собой: не время заниматься глупостями.
Вывел Лизу на двор и посадил в «пикап». Дал пятьсот рублей мелкими купюрами и строго напутствовал, закрепляя код:
— Жди заветного слова. Ничего не бойся, ребята отвезут, куда скажешь.
Ребята — двое крутолобых бычар, один за баранкой, другой рядом — согласно закивали. Лиза опять разнюнилась.
— Догмат Юрьевич, я исправлюсь, честное слово. Не гоните меня, пожалуйста!
— Заткнись, — одернул психиатр. — Давай, мужики, поехали.
В дороге ее настроение быстро изменилось, просветлело. Неизвестно откуда пришло понимание, куда надо ехать. Конечно, в Малаховку, в больницу. Там в палате лежит раненый Сережа и истекает кровью. За всю эту чумовую неделю, во сне ли, наяву ли, она не забывала о суженом, только он словно отодвинулся в другой мир. И вот теперь она возвращалась к нему по солнечной дороге с приятными, молодыми, любезными попутчиками. Прикорнув на заднем сиденье, Лиза прислушивалась к их болтовне. Один сказал другому:
— Может, завернем в лесок, отдерем напоследок? Телка-то приемистая, при фигуре.
— Ты что — совсем охренел? — отозвался товарищ.
— А что такое?
— Она же с начинкой, не понимаешь, что ли?
— Какая разница?
— Такая, что тебе за нее варежку порвут.
— Уверен?
— А ты нет?
Лиза блаженно дремала, приоткрыв рот. В уголках губ выступили капельки слюны. Чудилось, розовая птица фламинго устроилась у нее на голове и коготками щекочет ресницы. Но когда открывала глаза, оказывалось, это всего лишь солнечные лучи не дают ей покоя. При въезде в Москву один из бычар обернул к ней каменный лик.
— Ну что, надумала, куда тебя?
— В Малаховку, миленький, — счастливо вздохнула Лиза. — Там больница трехэтажная, покажу.
— Что ж раньше молчала, стерва?! — взъярился бычара. — Надо было на окружную свернуть.
Она не испугалась его грозного рыка. С той минуты, как отворилось в ее душе неземное сияние, все люди казались ей маленькими, смешными хлопотунами, похожими на пушистых обезьянок. Опасалась она только перемен, но не всяких, а той черной ямы, куда ее зашвырнет в конце сияющего пути. Она знала, что так будет, но не знала — когда. Удивительно, но предощущение неминучей черной ямы ничуть не нарушало чудесной истомы, разлитой по всем ее клеткам, напротив, добавляло к сладостному саморастворению особую пронзительную ноту. Вскоре Лиза по-настоящему крепко уснула, и разбудили ее уже в Малаховке.
— Эй, курица, протри зенки! Теперь куда?
Лиза сразу сориентировалась:
— Вон тот поворот, миленький, вон тот поворот, — радостно заверещала. — А после направо — вон, за водонапорную башню…
Через пять минут были на месте.
В больницу Лиза вошла, как к себе домой, и первым, на кого наткнулась, был доктор Чусовой, владелец клиники, который встретил ее сурово:
— Неделя прогула, Королькова. Несолидно.
Лиза сперва не поняла, о чем он. В ту минуту ей казалось, она отлучалась ненадолго, на час, на два, но внезапно она все вспомнила и виновато понурилась.
— Простите, Захар Михайлович, но я не виновата. Со мной такие приключения, такие приключения — ужас просто!
— Меня твои приключения не касаются, Королькова, все равно ты уволена, — он смотрел на нее пристально, на-бычась, такой его взгляд мало кто из персонала выдерживал. — Не понимаю только, отчего ты веселишься? Думаешь, незаменимая?
— Захар Михайлович, как же вы не понимаете! Такой чудесный денек, солнце, небо синее-синее, как бирюза… И сейчас я увижу Сережу… Он в прежней палате?
Доктор почесал бороду, коротко поклонился и быстрым шагом пошел мимо нее в ординаторскую. На пороге оглянулся: Лиза послала ему воздушный поцелуй.
Лихоманов-Чулок сидел боком к двери, читал книгу, положив ее на тумбочку. Лиза победно вскрикнула и бросилась к нему в объятия. О, Господи, какое долгожданное счастье! Зацеловала, затискала, бормотала бессвязно:
— Любимый, родной, ты выздоровел, выздоровел!..
Ему сразу не понравились ее глаза: в них не было жизни, а только телячий восторг, — и суженные, черные, чужие зрачки, как две инородные присоски.
— Подожди, Лиза, ты делаешь мне больно.
— Милый, родной, любимый!
На всякий случай он быстро ощупал ее с ног до головы: нет ли аппаратуры, но Лиза восприняла это, как сигнал, хохоча, перевалилась на расселенную, смятую кровать.