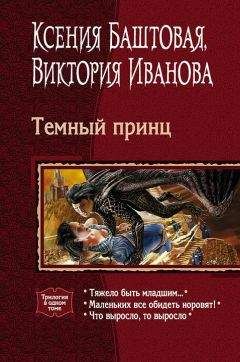Джон Ланчестер - Рецепт наслаждения
Прямо за Шиноном я заметил указатель к замку, о котором никогда не слышал, — Шато д'Эрбол. И, повинуясь импульсу, свернул с шоссе, чтобы осмотреть это место придирчивым взглядом знатока. Мы с автомобилем с урчанием взбирались по посыпанной хрустящим гравием подъездной дороге к приземистому строению XVII века с необычно маленькими окнами. Я на мгновение задался вопросом, но тут же исключил эту мысль из своего сознания, как монарх изгоняет из страны преступника или как воин-самурай обезглавливает крестьянина — просто, чтобы проверить остроту своего меча, — я подумал: а что, интересно, мои юные друзья купили себе на обед и где? Последовали ли они совету, какую charcuterie-pâtisserie-boulangerie-épicerie[222] посетить, или решили действовать наудачу? Мой брат, когда он совершенно погружался в какой-нибудь проект, переставал есть составленные должным образом обеды, как будто принимая совет Одена — «художник живет на осадном положении» — слишком буквально и слишком близко к сердцу. Бартоломью урывал возможность перекусить в редкие минуты отдыха от сталкивания со стен вражеских осадных лестниц, тушения зажженных неприятельскими стрелами пожара и выливания кипящего масла на головы атакующих. Бартоломью облагораживал свои привычки, называя трапезы «пикниками». На практике это подразумевало поедание хлеба буханками, расхаживание широкими шагами по мастерской и закусывание его целыми пачками плавленого сыра, полубанками маринованных овощей, холодными сосисками, резаной ветчиной и тушеной фасолью прямо из жестянки. Причем он делал это стоя, как шотландец поедает свою кашу. Я однажды заботливо заглянул проверить, как братец поживает (он тогда с головой ушел в какую-то из своих работ — аллегорический Геракл, извивающийся в аллегорической рубахе Несса, которая, при ближайшем рассмотрении, оказывалась звериной шкурой), прихватив с собой небольшую, но тщательно продуманную корзинку маринадов и соусов, из тех, что ему больше всего нравились (Бартоломью был в тот момент «временно холост»). Но он только объявил: «Великолепно — я до смерти есть хочу», сожрал целую банку французских корнишонов и заснул на своем непристойном, кофейного цвета диване. Заканчивая парк скульптур в forêt d'Aude,[223] Бартоломью произвел сильное впечатление на местных рабочих тем, что жил, казалось, на одном красном «Сансере» и шоколадном печенье — лакомстве, до тех пор для них неведомом, но чьи подкрепляющие свойства на них, по их собственным словам, произвели сильное впечатление.
Было приятно, очень приятно иметь возможность отказаться от костюмов и париков, которые были моими постоянными спутниками последние несколько дней, а теперь валялись в двух вместительных чемоданах в багажнике. Открытый люк в крыше машины позволял стихиям самым умиротворяющим образом овевать мою голову: потоки воздуха циркулировали вокруг нее, как пассаты вокруг самой Земли. Я должен объяснить, что череда личин и инкогнито, которыми я до сих пор украшал свое повествование, не есть мое обычное (или привычное) облачение. Моя гладко выбритая голова, к примеру, несмотря на то, что это такая практичная и легко поддерживаемая прическа, бывало, некоторым казалась диссонансом остальным предметам моего гардероба, особенно, наверное, моей коллекции костюмов: взять, скажем, костюм в крупную клетку, мой любимый, который я надел в этот день, отдавая должное свободному времени, подаренному мне благоприятным сочетанием карты, компаса, радара и моей собственной изобретательности. Его зеленые и охряные клетки были дополнены, или, может быть, следует сказать — оттенены — моей рубашкой из бледно-вишневой хлопчатобумажной ткани, чья тонкая фактура отливала — но это мог заметить только с близкого расстояния и очень острый глаз — диагональным муаровым узором. На мне были еще галстук-бабочка в желтый горошек на голубом фоне, такой же платок в нагрудном кармане, карманные часы с цепочкой и великолепно консервативная пара коричневых башмаков ручной работы.
Я въехал на стоянку при chateau около четырех часов дня. Обычное скопление туристических автомобилей и один-два развалюхи-автобусы. Я принял решение не задерживаться, и очень верное, так как внутреннее убранство chateau и его история оказались скучны, а залы были чудовищно забиты пихающимися ордам ignorami.[224] Захудалые провинциальные помещики семейства Эрбо, похоже, так и не совершили, не купили и даже не помыслили ничего, представляющего интерес. Их chateau, тем не менее, все-таки обладал одной подкупающей чертой, а именно — семейным мавзолеем, милым таким зальчиком с несколькими неплохими надгробными статуями. А последний дореволюционный герцог Эрбо был даже похоронен не с одной или двумя, а с четырьмя (4!) своими любимыми шотландскими борзыми. Холод мрамора был прекрасен. Определенно, больше всего в жизни представителям семейства Эрбо была к лицу смерть.
Странно, как работает разум. Камень надгробий, который должен был бы напомнить мне о брате, который с ним работал («Ныряльщик», каталонская «Пьета»), вместо этого говорил мне, как обычно, о бедном Миттхауге. Это произошло благодаря сложной цепочке ассоциаций и было связано с тем, что мрамор напоминает мне о снеге (цвет, температура, чистота), а снег — о нашем норвежском слуге. В моем юном воображении Норвегия запечатлелась как страна, погруженная в перманентное состояние укрытой снегом белизны, где белые медведи превосходят числом человеческие существа, как овцы превосходят поголовьем людей в Новой Зеландии. (Этот факт в свое время произвел на меня большое впечатление: он наводил на мысль о вероятности, что однажды овцы могут взять верх.) Так или иначе, уместность мрамора в контексте похорон основана на метафорической связи, созвучности между прохладой камня и холодом мертвой человеческой плоти. И отчасти, конечно, само совершенство мрамора усиливает ассоциацию со смертью, к тому же, как все совершенное, мрамор инертен. Возможно, именно поэтому рабочие-художники Средневековья, так часто теряющиеся в тени громогласно заявляющих о себе précieux[225] мастеров эпохи Возрождения, не любили камень, предпочитая более легкие в обработке и более выразительные материалы, а также питая энтузиазм к цвету и раскрашиванию, чья сильная сторона заключается в том, что хороший вкус в этих работах присутствовал не всегда.
Смерть Миттхауга в целом рассматривалась как нечто, произошедшее в той пограничной области, что отделяет несчастный случай от самоубийства. Эта сфера предоставляет обширные возможности тем, кто стремится интерпретировать мотивы чужих поступков и разгадать тайны человеческого сердца, дойти до самой сути (мое личное мнение: это бессмысленно). Факты таковы: наш повар упал на пути перед поездом на станции Парсонс Грин; я был с ним, хотя я объяснил следствию, что не могу представлять большой ценности как свидетель по причине борьбы, в которую вступил в тот момент со своими перчатками (моя мать велела скрепить их между собой отрезком резинки, которая была чуть-чуть коротковата, из-за чего мне приходилось прижимать одну перчатку к боку локтем, и только тогда я получал возможность вытянуть на место вторую и протиснуть в нее пальцы — далеко непростая операция, даже в лучшие времена неизменно отнимавшая у меня свободу движений и требовавшая большой сосредоточенности). Похоже, Митгхауг просто шагнул вперед и потерял равновесие именно тогда, когда этого делать не стоило, как раз в тот момент, когда поезд с грохотом влетал на станцию. Я был избавлен от самых отвратительных подробностей (включая, предположительно, самое худшее, когда поезд, теперь лишенный пассажиров, сдал назад, открывая обезображенное тело нашего бывшего повара, расчлененного, как цыпленок для рагу), поскольку милая толстуха, которая видела, как мы с Митгхаугом вместе входили на станцию, немедленно отвела меня к ближайшему полисмену. Они переговорили о чем-то шепотом, пока я ел леденец, которым меня подкупили. Домой меня отвел уже другой полисмен, от которого я впервые услышал речь с нортумберлендским акцентом. На Бэйсуотер снова обрушились неприятные известия, и только у моего отца хватило честной вульгарности, чтобы сказать вслух то, о чем все подумали: «Опять!» Следственная комиссия посчитала, что причина смерти не установлена, хотя коронер, в остальном казавшийся обаятельным (по крайней мере мне, тогда двенадцатилетнему и, естественно, главному свидетелю), как будто склонен был добиваться признания этого случая самоубийством. Я думаю, это потому, что один из братьев Миттхауга тоже, выражаясь словами моего отца, «сам себя прикончил». (Коронер с ходу забраковал «показания» некой женщины, явной психопатки, которая утверждала, что якобы видела, как я точно рассчитанным движением толкнул Миттхауга в спину как раз в тот момент, когда поезд подходил к платформе.) Денежных или любовных неприятностей за Миттхаугом известно не было, и он не оставил никакой записки. Однако его былая «тяга к бутылке», как сказал отец, не была тайной; а еще он с увлечением читал творения своих соплеменников (Стриндберга и Ибсена), и коронер как будто считал, что это говорит о многом. Так или иначе, причина смерти так и не была установлена.