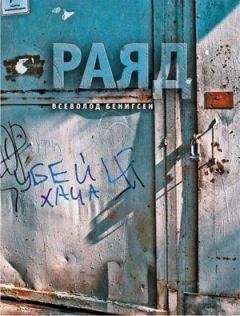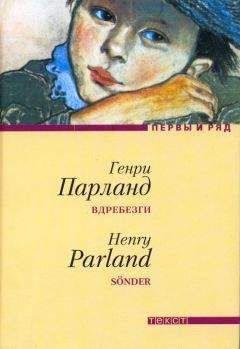Всеволод Бенигсен - ВИТЧ
Но было в Привольске-218, помимо статуса, еще кое-что, что в нашей истории имеет первостепенное значение. А именно: как, собственно, этот закрытый город появился и кто его населял.
III
Писатель и журналист Максим Терещенко долгое время прожил в Америке. Из России, точнее, Советского Союза он эмигрировал в середине восьмидесятых, в разгар застоя. Причиной отъезда послужила не столько литературная или тем более политическая деятельность. Просто в жене неожиданно проснулась одна восьмая еврейской крови, и эта одна восьмая потребовала срочно перевезти ее на историческую родину, то бишь в Израиль. Максим, в котором не было ни восьмых, ни шестнадцатых еврейской крови, не очень-то хотел ехать, но все приятели стали наперебой крутить пальцем у виска, приговаривая: «Ты что? Ты посмотри, что тут делается, это же бодяга на века», а приятель-художник Маранцев прямо сказал: «Старик, если хочешь оставаться, — оставайся. Дай мне только жениться на твоей жене. Тебе уже все равно, а я еще хочу мир посмотреть». Тем самым подтвердив ходившую в то время поговорку, что жена-еврейка — не роскошь, а средств во передвижения. Но Максим представил вечно заляпанного масляной краской да еще и с остатками завтрака в бороде Маранцева в постели со своей женой, и его аж передернуло. Он понимал, что художник не претендует на полноценный брак, но все равно было как-то неприятно. К тому же восьмилетний сын Максима, словно сговорившись с мамой, стал настаивать на переезде, хотя ему-то, казалось бы, что за дело? И Максим сдался — сказал, что готов. Два года они всей семьей мотались по каким-то кабинетам, выслушивали кучу унизительных гадостей от чиновников различной степени паршивости и ждали вызова из ОВИРа. Были потрачены уйма времени, нервов и денег на различные взятки и справки. С работой становилось все хуже и хуже. Терещенко и без того считался не шибко устойчивым в идеологическом плане писателем, а тут еще же-на-еврейка и грядущая эмиграция. Редактор одного толстого журнала ему так прямо и сказал: «Я знал, Максим, что ты ненадежный человек, но чтоб настолько…» — как будто у ненадежности бывают различные степени. Тем более в СССР, где надежность была сродни беременности — либо есть, либо нет, кто не с нами, тот против нас. В общем, все это было довольно мучительно, и Максим уже начал было подумывать, а не повернуть ли колесо истории вспять, то есть повиниться и накропать что-то такое идеологически зрелое. Мол, что там с отъездом, еще бабушка надвое сказала, а жена и сын требовали материальных благ, и немедленно. Не желая понимать, что это входит в логическое противоречие с венцом будущего изгоя-эмигранта, который Максим носил уже второй год. В общем, Терещенко плюнул и написал, но вышло неискренне, а советские чиновники от литературы могли простить все, но неискренность чуяли за версту и не прощали. А в феврале 1985 года они с женой наконец получили разрешение на выезд. 8-го марта они вылетели в ФРГ. 9-го марта прилетели в Израиль. А 10-го марта умер Черненко. Первым секретарем ЦК КПСС стал Горбачев, и началась другая эпоха. Началась, конечно, не сразу, но когда в 1986 году «пошел процесс» перестройки, ускорения и гласности, Максим взвыл. Такой подлости от судьбы он не ожидал. Два года мучений и остракизма на Родине плюс год изучения иврита и работы типа сторож-мусорщик-охранник на земле обетованной, и на тебе! Но перенес удар стоически. Просто напился в баре, поскандалил с женой и подрался с полицейским. Точнее, попытался подраться. Потому что его мгновенно скрутили и доставили в участок. Отделался, слава богу, небольшим испугом и большим штрафом.
Несколько лет спустя он узнал, что финалы у таких историй бывают гораздо более трагичными. Так, в ка-кой-то газете он прочитал, что его коллега, один восточнонемецкий писатель, долго вынашивал план побега из ГДР в ФРГ. Ради того чтобы получить доступ к военной зоне в Берлине, он стал работать на Штази, «заложил» нескольких друзей, расстался с любимой женщиной и написал энное количество лояльной макулатуры. Добившись доверия, он наконец получил разрешение побывать в Западной Германии на какой-то литературной конференции. Обратно не вернулся. Это случилось в октябре 1989 года. А через двадцать дней рвущиеся к свободе восточные немцы оттеснили пограничников и, снеся все на своем пути, прорвались в Западный Берлин. В результате стена фактически перестала существовать. А писатель, не вынеся то ли угрызений совести, то ли просто издевательства судьбы, застрелился. И пока где-то шумели братающиеся немцы, он лежал в одном из западногерманских двориков с простреленным черепом.
Так или иначе, Максим твердо решил вернуться на Родину. Но сначала надо было уладить развод с женой, к которой он уже давно не испытывал никаких чувств, кроме приятельских. Она вообще была прагматиком и никогда не понимала зацикленности мужа на искусстве, и в частности на литературе. Можно было только удивляться, как им удалось прожить вместе почти десять лет. Еще в СССР ей были глубоко чужды и его радости по поводу чудом добытых книжных раритетов, и его вечно голодные приятели, и их собственная семейная неустроенность. Максим же без искусства себя не мыслил. А что было делать в Израиле? В крошечном государстве, главной заботой которого является выживание? Тут уж не до культуры. В общем, жену все устраивало, а Максима нет. Сложнее было с сыном, которого Максим любил, но тот так рьяно занял сторону матери, что Максиму ничего не оставалось, как положиться на время, которое, как известно, лучший доктор. После развода, Максим сразу решил вернуться в Россию — Израиль ему порядком осточертел. Но в России на тот момент царил форменный бардак-разброд, от которого он даже за один год в Израиле слегка отвык. Тогда он решил махнуть к приятелю в Америку — тот обещал устроить Максима в одну из крупных русскоязычных газет. Думал, что на год, но застрял на добрый десяток лет. В Москву вернулся в конце девяностых. Долго привыкал к новому языку, обычаям, отношениям, а также криминалу, но в итоге пообвыкся, пообтерся, пообтесался и даже начал снова что-то пописывать. Не так активно, как в молодые годы, да и все больше какие-то эссе да статьи, но на хлеб с маслом хватало.
Однако через некоторое время он стал замечать, окружающая действительность его раздражает. Он как-то перестал ее, что ли, понимать. Всю сознательную жизнь он мучился от необходимости интриговать и «хитрожопить» (по любимому выражению одного его приятеля) и именно поэтому ходил при совке в неблагонадежных. То было, конечно, влияние шестидесятников со всякими их «хочу быть честным» и «днями без вранья». Потом наконец наступило время полного разгула демократии — все бросились говорить друг другу правду, причем желательно в лицо и с легким креном в хамство (тогда это называлось полемикой). Но затем время сделало какой-то странный головокружительный кульбит, и прямота и честность, которыми все прямо захлебывались в конце восьмидесятых и начале девяностых, неожиданно снова уступили место хмыканью, меканью и беканью. Проблема была в том, что в СССР интриги, невнятица и прочие подводные камни были естественной частью советского пейзажа и несли какой-то смысл (идеологический, политический). Не говоря уж про то, что у некоторых были, образно выражаясь, лоцманские карты этого замысловатого подводного ландшафта — люди учились лавировать между этих камней: читали между строк, искали фиги в карманах, намеки и скрытые смыслы. Даже ложь была почти всегда во спасение. В новые же времена идеология перестала доминировать, но и отношения между людьми распались. Причем до такого молекулярного уровня, что нормой жизни снова стала невнятица — вежливая, хамоватая, раздолбайски-пофигистическая, но, увы, непостижимая, ибо в ней не было ни смысла, ни логики. Это была невнятица, вызванная тотальным отсутствием интереса людей как друг к другу, так и к самим себе. А заодно и к окружающему миру.
Максиму отчаянно хотелось зацепить, ухватить эту реальность, потому что он был уверен, что как никто другой болезненно ощущает ее действие на себе. Можно даже сказать, он пытался вывести формулу нашего времени. В дело шло все: от случайных встреч и брошенных фраз до симптоматичных, как он считал, проявлений.
Вот и сейчас, проснувшись после странного сна с сигнализацией и не менее странного разговора с Толиком, Максим сидел перед монитором компьютера и чувствовал, как кровь медленно, но верно приливает к голове, окатывая мозг своими девятибалльными волнами. На экране «горел» ответ редактора одного журнала на посланную Максимом статью.
«Уважаемый Максим.
Спасибо за Ваше эссе. Оно нам очень понравилось, и мы были бы рады напечатать его в ближайшем номере журнала.
Тем не менее, спасибо за Ваше время и за то, что обратились в наше издание. С нетерпением будем ждать от Вас новых работ.