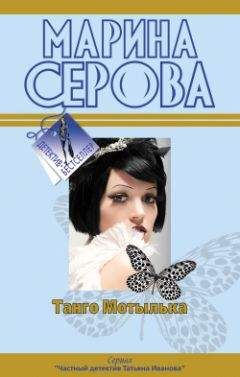Елена Крюкова - Аргентинское танго
Сколько часов они летели до Токио? Она не помнила. На нее волнами накатывал страх. Она сидела, выпрямившись, в кресле, не касаясь спиной спинки кресла, словно в нее вместо хребта вставили стальной стержень. Стюардесса приносила еду и питье на подносе — она качала головой: не надо, спасибо. Ей приносили плед, укутать ноги: холодно же в салоне, вы простудитесь! — она слабо улыбалась, прикладывала палец ко рту: о, спасибо, не надо. Когда стюардесса прикатила на тележке крепкие напитки в плоских широких бокалах — ром, коньяк, — Мария глядела мимо хорошенькой девушки, за штору иллюминатора, во тьму, в пространство. Стюардесса, наклонившись, решив позабавиться с красивой, слишком грустной пассажиркой, всунула ей в пальцы бокал коньяка. Мария вздрогнула. Заглянула в бокал. Поднесла к носу. Вдохнула запах спирта, медового винограда.
— Попробуйте, — улыбаясь, нежненько прозвенела голоском стюардесса, — это один из лучших коньяков мира, испанский «Гвадалквивир».
Она вздрогнула снова. Испанский?.. О, она обязательно попробует. Стюардесса ускользнула по проходу между креслами, катя перед собой изящную тележку. Мария сделала глоток. Сгусток пламени покатился по горлу, обдал глотку жаром, потом подпалил сердце, оно вспыхнуло и взорвалось. Она закрыла глаза. Закусила губу. Она положит сверток в токийском метро, и люди взорвутся. И она получит за это деньги. А если она этого не сделает? Если она этого не сделает — ей пустят пулю в лоб. И она никогда уже не родит ребенка. Никогда.
Ты платишь за одного своего ребенка жизнями других, сказала она себе, и это слишком большая плата, тебе не кажется? Она надела наушники. В наушниках играла тихая, успокаивающая музыка. Когда их самолет будет падать, музыка будет играть все такая же тихая и нежная, умиротворяющая. Так устроен мир. Музыке все равно, живешь ты или умираешь. Музыка всегда жива, и всегда одна.
А ведь Иван не знает, чем занимается его отец. Не знает. И она об этом узнала случайно. У Аркадия. Не узнала — догадалась. А потом, тогда, там, в лесу в Старой Купавне, Ким сам проболтался.
Если убийство нынче становится профессией — почему бы и ей не принять участие в диком карнавале? Страшная пляска, Марита. Почище зажигательной арагонской хоты. О, тебя хоту учила танцевать старая Хосефа Гранадос! Старая Пепа знала толк в хоте. Она танцевала хоту по всем правилам. Она выходила во двор их дома в Сан-Доминго в короткой и пышной, до колен, юбочке, голени ее были охвачены красными чулками, перевязанными крест-накрест черными подвязками, на ногах у нее были черные матерчатые туфельки, кружева нижних юбок, густо-розовые, взвивал сухой жаркий ветер; старая Пепа, с лицом таким морщинистым, что оно гляделось ржавой от старости абрикосовой корой, и с серьгами в ушах такими огромными, что они напоминали золотые тыквы, с бубном в руках, таким же старым, как она сама, выходила, горделиво на середину двора, поднимала руки с бубном вверх — и, размахнувшись, ударяла сморщенной ладонью в бубен, а тут и вступал, вскинув голову, ее седой петух, ее муженек Пакито, он сильно ударял пальцами о гитарные струны, и пошло-поехало, гитара уже исторгала эти зажигательные, трехдольные взлеты, взмахи, всплески, взвивы; и старая Пепа, наклонив шею и встряхивая бубном, уже ударяла ногой об ногу, как молодая, а Пакито, стоя поодаль, играл все рьянее, все настойчивей, будто хотел оборвать все струны, переломить гитару надвое — сколько же в нем было огня, в старике! — а Пепа уже шла по кругу двора, и мать Марии, Мария-Луиса, уже хлопала в ладоши и щелкала пальцами, и вскрикивала: «Оле!», подбадривая танцовщицу; и уже не разглядеть было коричневого измятого лица старой Пепы — она была снова молодой и горячей, и еще ни одного ребенка не родилось у нее, и еще ни одного из них не убили на войне, и еще смоляные косы были у нее, а грудь высокая, будто два круглых жарких апельсиновых шара было спрятано там, под черным арагонским платьем. «Оле! Оле!» — кричала маленькая Марита и тоже хлопала в ладоши. И, не выдержав, выбегала на середину двора, к Пепе — танцевать вместе с ней. И танцевала, подняв смешные маленькие ручки над головой, притопывая ножонками точно как Пепа. И Пакито бил по гитарным струнам, гортанно восклицая: «Хота-а-а-а!»
Этот скорпион Беер заполучил в убийцы танцорку. Танцорка, ты должна станцевать ему танец. Такую хоту, какую он никогда в жизни не видел. И не увидит.
Под ней, далеко внизу, летела, плыла, синела в тумане Япония. Древняя страна, дальние острова. Сколько стран они уже с Иваном перевидали? Почему у Родиона была такая мелово-белая рожа, когда он сажал их в самолет? Он же всегда такой розовый поросеночек. Есть повод пугаться? Повод бояться есть всегда. Христос учил бедных людей не бояться. Боящиеся, говорила ей мать, это значит неверующие; они только притворяются, что они верят, а страх ест их изнутри, и они будут гореть в аду вместе с магами, волхвами, преступниками, чародеями, гадальщиками, разбойниками, ворами, прелюбодеями и убийцами. Лолочка, подруга, и ты будешь гореть в аду тоже, Лолочка? Ты же такая красивая, такая бойкая и умная. Ты же видишь будущее. Ах да, будущее запрещено видеть. Плохая ты христианка, Мария. Ты бы хотела увидеть свое будущее.
А что, если будущего у тебя — нет?
Самолет стал снижаться, терять высоту. Проваливался в воздушные ямы. Снова взмывал вверх. Мария вцепилась в ручки самолетного кресла. Рядом безмятежно, задрав подбородок, спал Иван. Он был, как всегда, в отличной танцевальной форме. На него не действовало ничего. Ни ее слезы и рыдания. Ни ругань и матерки Станкевича. Ни бесконечные перелеты из страны в страну. Ни смена часовых поясов и дат. Ни изнурительные репетиции. Он никогда не болел, не ныл, не хныкал, не капризничал. Он всегда улыбался. Он всегда был подобран, как хищный зверь для прыжка. Он всегда был двужильный. А сейчас он просто спал, похрапывал, наслаждаясь полетом, как наслаждался бы хорошим вином, и бисеринки пота выступили у него на висках.
О, как же он похож на испанца, подумала Мария обреченно. Никогда бы не подумала, что он русский. Кто были его предки? Все мы состоим из плоти и крови своих предков. Только души у нас всех разные. Русский испанец, великий Иоанн, с врожденным блеском танцующий фламенко, разве тебе не видится во сне, что я тебе изменила? Что я изменила тебе — с твоим отцом?
Тишина. Какая провальная, мертвая тишина.
Не бойся, Мария, это закладывает уши. Самолет круто идет вниз.
Ей хотелось крикнуть: сейчас мы разобьемся! — и она сдержалась, сцепила крепче зубы, и так впилась пальцами в ручки кресла, будто попугай когтями — в решетку клетки. Самолет, как же я боюсь тебя! Как ненавижу тебя! Я когда-нибудь разобьюсь, это точно, подумала она с ужасом, борясь с подступившей к горлу тошнотой. Огромная железная машина быстро, пугающе стремительно скользила вниз, к земле, и земля приближалась неотвратимо, как судьба.
«Судьба. Моя судьба. Зачем я поймана, как птица? Я же вольная бегунья. И у меня сильные и длинные ноги. И я танцую хоту так же хорошо, как танцевала ее когда-то старая Пепа во дворе в Сан-Доминго. Быстрей, самолет! Или уж падай и разбивайся к чертям, или садись! Пусть мы останемся живы! Боже! Дай нам…»
Она зажмурилась. Стюардесса пропела: пристегните ремни, мы приземляемся в аэропорту столицы Японии Токио, просьба к пассажирам — не курить… Иван открыл глаза, когда самолет так наклонился носом вперед, что маленький раскосый мальчик рядом с ним чуть не вывалился из кресла, даром что был пристегнут ремнем. Ребенок закричал, заплакал, Мария вздрогнула, встрепенулась. Иван, сощурившись, брезгливо глянул на восточного мальца.
— Ишь, как орет-то! Боится…
Мария смотрела в лицо Ивану. Зачем он так глядит на ребенка? Так… презрительно…
«Он никогда не захочет ребенка от тебя, — вдруг подумалось ей беспощадно и жестоко. — Никогда. Несмотря на то, что он желает и хочет тебя. Но это же не любовь, Мара. Это — опьянение мужчины — женщиной. Только и всего. А любовь — это когда мужчина хочет от тебя ребенка. Когда он спит и видит вашего общего ребенка, придумывает ему имя, шепчет тебе, обнимая тебя: я хочу, чтобы у него были твои глаза… твоя улыбка… Он же не любит тебя, Марита! Он любит только твое тело! И твой танец! И деньги, что ты ему приносишь!»
Самолет выпустил шасси, и весь железный корпус сильно тряхануло. Навстречу уже бежала бетонная посадочная полоса. Зубы Марии застучали друг об дружку. Она плотно сжала губы. Японский ребенок в кресле рядом с Иваном по-прежнему громко плакал, и она, через торчащие колени Ивана, перегнулась к нему, приголубила его, погладила по голове.
— Не плачь, маленький, не плачь…
Мальчик, плача, косыми черными глазками исподлобья глядел на тетю, говорящую на непонятном языке.
«Сколько раскосых мальчиков и девочек я погублю сегодня в метро? Десять? Сто? Что я делаю? Зачем я таким оригинальным образом схожу с ума? Ведь это опасно, Мария, так жить, ты же просто сойдешь с ума, ведь это же так просто». Она закусила губу. Ребенок, под ее ласково скользящей рукой, перестал плакать, заблестел смоляными узенькими глазенками, умильно, как котенок, глядел на нее. Отчего дети и звери всегда так похожи? Ребенок, ребенок. Это был мальчик. У нее тоже был мальчик. Врачи сказали ей. Врачи сожалели: малышка сама, что ей, четырнадцать лет, не удержала. Матка инфантильная еще, слабая. Франчо, это был твой сын. Ты помнишь меня, Франчо? Ты забыл меня. У тебя было таких девушек еще тысяча, миллион. Мужчина летит над женщинами, как коршун. А женщина затаилась, распластала по земле крылья и ждет.