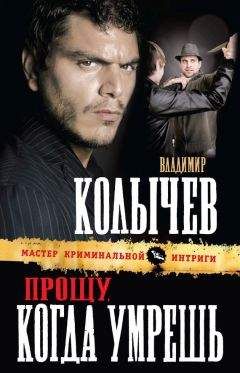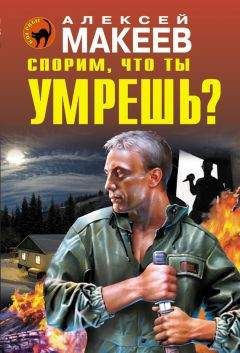Время ацтеков - Лорченков Владимир Владимирович
Жертвенный нож.
– Послушай, Женя, – говорю я.
– Я и правда люблю тебя, – говорю я.
– Плоть слаба, – признаю я.
– Но я люблю тебя, и плевать мне, что ты думаешь об этом, – говорю я.
– Я люблю тебя, – говорю я.
– И точка.
Потом включаю подсветку и вижу, что неправильно набрал номер. Луна смеется. В темном пятне, повисшем над и без того темной улицей – в доме легавого, – зажигается свет. Я без луны знаю, что это в его квартире. Эта ночь открыла мне предвидение. Телефон, луна, да окошко легавого – так они перемигиваются, ни дать ни взять трое влюбленных, блин.
Я швыряю телефон в кусты и поднимаюсь в подъезд. Пора, пора.
– Здравствуй, – стоит на площадке он.
– А это еще зачем? – глядит на нож он.
– Ночь, мать твою, – говорю я.
– И у тебя день рождения, – задумчиво говорит он.
– Поздравляю, – поздравляет он.
– С днем рождения, – обнимает он меня за плечи.
– Насмотрелся детективов и, обнимая, обыскиваешь, – говорю я.
– Насмотрелся детективов и, обнимая, обыскиваю, – кивает он.
– Ах, деточка, – поет он.
– Если бы ты знал, сколько в детективах правды, – задумчиво поет он.
– Я-то этим говном 20 лет занимался, – говорит он.
– Уж я-то знаю, что к чему и что почем, – хвастается он.
– Уж ты-то, – говорю я.
– Заходи, – спохватывается он.
Мы заходим в прихожую. Разуваясь, я кладу нож в ботинок. Луна шепчет мне, что пока оружие не нужно.
– Луна шепчет мне, что ты не опасен, – говорю я.
– Поэтому давай выпьем, – предлагаю я.
– Луна? – кривит губы он.
– Да, – киваю я. – Луна – это очень серьезно. Для ацтеков. Гораздо больше, чем Солнце. Хотя любили они больше Солнце.
– Объясни, – просит он.
– Читал Библию? – спрашиваю я.
– Не напрягайся, – говорю я. – История про Иисуса Навина. Ну, когда он заиграл на трубе, на чем они, древние евреи, играли по праздникам. Солнце встало, и за день евреи разгромили врага.
– Ага, – припоминает он.
– Припоминаю что-то в этом роде, – говорит он.
– Смотрел в утренних мультфильмах, ну, где истории из Библии доступно разжевывают, – допускает он тавтологию.
– Еще когда мы были со Светой, – грустит он.
– У меня по пятницам не было утренних дежурств, – вспоминает он, – я на цыпочках шел на кухню и смотрел это дерьмо по маленькому телевизору почти без звука, чтобы не разбудить горячо любимую жену, – вздыхает он.
– Ах, – говорю я.
– Выпьем, – говорю я.
Мы чокаемся и пьем залпом, и он сразу разливает еще. Мы так же не спеша закуриваем. Адова смесь. Но луна шепчет – оставайся.
– Так вот, – вспоминаю я.
– Этот гребаный миф оказался вовсе не мифом. Астрономы подбили баланс и выяснили, что в тот день какая-то комета пролетела так, что гребаное Солнце над нашим полушарием и правда зависло на сутки, – затягиваюсь я.
– Понятно, – задумчив он, – значит, над другим гребаным полушарием была ночь. Сутки.
– Верно, Спиноза, – выпиваю я.
– Это-то и определило мировоззрение ацтеков, – говорю я.
– Они умоляли Солнце вернуться и не покидать их больше, – говорю я, – они были дикари и перепугались, что мир покинет их, вот так возьмет и покинет. В буквальном смысле умоляли. Детей своих убивали ради этого.
– Но уверенности в том, что Солнце не кинет их еще раз, у ацтеков не было, – говорю я.
– Поэтому они смотрели на мир мрачно, – улыбаюсь я.
– Понимаешь? – спрашиваю я.
– Ага, – кивает он. – Устоявшийся порядок вещей, и все такое.
– Бинго, – говорю я и затягиваюсь.
– Все это очень интересно, – говорит он.
– Только не объясняет мне одного, – разводит руками он.
– А именно, почему ты это сделал, – говорит он.
– Зачем ты их всех убил? – искренне интересуется он.
И правда. Зачем я это сделал?
– Только прошу тебя, – говорит он.
– Не нужно дергаться, и прости, что эта фраза ну прям как из боевика, – говорит он.
– Стреляю я превосходно, – напоминает он.
– Полиция нам не помешает, – говорит он.
– Ведь это все же я сбил тех двух телок, – напоминает он.
– Хоть запросто могу повесить их на тебя, – улыбается он.
– Но это не проблема полиции, а наше с тобой дело. Давай разберемся с ним, – говорит он. – Я хочу знать, почему ты это сделал?
– Ладно, – говорю я.
– Зачем ты это сделал? – спрашивает он.
– Я о Свете, – уточняет он.
– Она тебе надоела? – спрашивает он.
– Но если это было так, – говорит он, то на хрена было устраивать весь этот цирк? Бросил бы ее, да и все.
– Я правда не понимаю, – вынимает он из буфета пистолет.
– Я еще ничего не решил, поэтому тебе нечего бояться, – говорит он.
– Но так как я все еще ничего не решил, то тебе стоит опасаться, – говорит он.
– Я общался с тобой почти год, – шевелит губами, подсчитывая, он.
– Ты явно не маньяк, – качает он головой.
– Так. Почему. Ты. Это. Сделал?
Я вижу, что он плачет.
– Может быть, я шизофреник? – осторожно спрашиваю я.
Он гневно трясет головой, и на меня сыплется штукатурка от выстрела. Ладно. Я киваю. Это был неправильный ответ.
– Не будем пока о тебе, – вздыхает он.
– Сказать тебе, почему ОНА это сделала? – спрашивает он.
– Валяй, – осторожно говорю я.
– Ты извини, – говорит он, – я обойдусь без всей этой высокопарной херни про ацтеков, вицлипуцли и Марии Кюри, – мешает он все в кучу.
– Обычная, без претензий, ладная бабенка несчастлива в браке, – монотонно перечисляет он.
– Особо ни хера не делает, работой не увлечена, подруг нет, с мужем несчастлива, – горько говорит он.
– И ей выпадает типа бабское счастье, – глядит он на меня. – Молодой трахарь с доходом на двоих, и вот он порет ее трижды в день, и она почти поверила, что так и будет всю жизнь, да вот незадача, трахарь-то наш бабник и не собирается с ней жить.
– Больше того, он даже и спать-то с ней уже не хочет, надоела, – говорит легавый.
– И вот пузырь-то пшик, и мечты разлетелись мыльными брызгами, после которых пальцы скользкие, будто ты дрочил в туалете, да и спустил сгоряча на руки, – говорит он.
– И никому ты, кроме мужа, опостылевшего мужа, не нужна, да еще и, получается, трахарь над тобой посмеялся, – сжимает он зубы.
– История стара, как мир, – допускает банальность он.
– Называется «разбитое бабье сердце», – говорит он.
– А когда это еще и на кризис возраста налагается, – говорит он.
– Волей-неволей возьмешься за пистолет, – рассуждает легавый.
И берется за пистолет.
– А ты не такой ишак, каким кажешься, – говорит он.
– Я и не знал, что отвар этого дерьма не дает крови сворачиваться, – говорит он.
– О чем это ты? – липким голосом спрашиваю я, но мы с луной уже знаем.
Луна подмигивает мне и фотографирует. Вспышка. Я захожу в кафе, с шуткой-прибауткой хлопаю официантку по заду и несу кофе своей даме. Той самой, которую через час будут резать. Сливаю по пути в чашку пузырек с отваром этой редкой дряни с латинским названием. Вспышка.
– Что-то вспомнил? – склоняется он ко мне.
– Ага, – устало говорю я.
– Как ты сказал? – припоминаю я.
– Мне всю жизнь снится, что я совершил убийство, а потом вдруг оказывается, что я его и правда совершил, – говорю я.
– Ну, да, – с пониманием кивает он. – И как ощущения?
– Ужас и облегчение, – признаюсь я.
– Слава богу, что ты догадался, – говорю я.
– Такой сон, длиной в жизнь, меня бы прикончил, – вздыхаю я.
– Я догадался в школе, – садится легавый.
– Когда притворялся вырубленным, а все ждал, ударишь ты меня или нет, попробуешь убить или нет.
– И вот когда ты не сделал этого, я понял, что ты и есть убийца, – говорит он.
– А ведь я почти поверил, что ты чист, – вздыхает он.
– Наверняка ты и сам поверил, – пожимает плечами он.