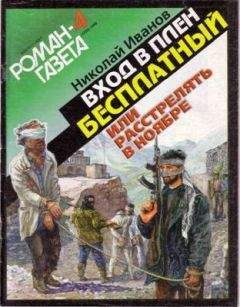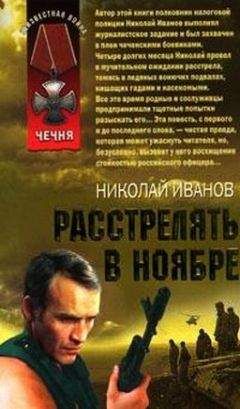Николай Иванов - Bxoд в плен бесплатный, или Расстрелять в ноябре
Замечаю лопату, забытую охраной с вечера после порции углей. Выкапываю в полу рядом с нарами углубление. Затем собираю пустые банки из-под «Новинки», начинаю их сплющивать. Махмуд догадывается о намерении, начинает помогать. Выкладываем жестянкой яму — теперь жар будет держаться еще дольше. Можно даже опробовать.
Разбираем с Махмудом одну из полок, лопатой колем на щепу чурбаки. Собираем все, что может гореть. Складываем костерок, зажигаем. Дым повалил такой, что на улице послышался топот.
— Что у вас? Живы? — кричат издалека, боясь окунуться в грязно-белую струю, вытягиваемую из блиндажа.
Мы лежим на полу, задыхаемся. Но не настолько, чтобы умирать. Терпим, верим, что дрова займутся огнем и дым постепенно уйдет. А тепло останется.
— Живы. Греемся.
А для себя отмечаем штрих — знать, не безразличны мы еще боевикам, виды у них на нас имеются. И то хорошо.
Плохо, что приближается зима. На лето грех жаловаться, в целом было тепло. А вот морозы в таких условиях выдержать не сможем. Впрочем, что я о зиме. Ноябрь ближе…
Верю и не верю в данный срок. С одной стороны, зачем убивать, а с другой — а почему бы и не убить? У человека с ружьем нервы всегда слабее…
А нас уже несколько раз поднимали днем на свет, разрешали походить около землянки. Стрельбы давно не слышно, лес стоит тихий, мирный и, судя по запахам, — грибной. В лесах, даже чеченских, кроме боевиков и шакалов должны водиться и грибы. Война грибам не помеха.
И еще один подарок, в котором захотелось увидеть смысл, — белые вязаные шапочки, принесенные Чикой.
— Белые — это хорошо, — вслух обрадовался я.
— Почему?
— В начале плена нам дали черные носки. Они сносились. Может, с шапочками светлая полоса начнется.
— Пускай, — соглашается Чика. — Нам тоже надоело из-за вас здесь мерзнуть. Все отряды уже по домам сидят.
Но еще большая неожиданность ждала Бориса, когда после приезда мотоцикла послышался топот в нашу сторону.
— Кто Борис? Ему передача.
В пакете, брошенном в дыру, оказались свитер, белая рубашка без рукавов (!) и белье. Ни записки, ни объяснений. Радость Махмуду, заимевшему наконец плавки. А вот Борис вместо радости загрустил. И, как вскоре выяснилось, не без оснований. Именно его выдернули на очередной допрос.
— Если твои родственники не успокоятся, мы включим им счетчик. Дадим неделю срока и, если тебя не выкупят, начнем набавлять цену — миллиард сто, миллиард двести.
— А что происходит?
— Хотят получить тебя бесплатно, за красивые глазки. Не получится, пусть хоть на самого Яндарбиева выходят. Мы никому не подчиняемся, только собственному карману. А в нем должны рождаться деньги. «Пустой карман не любит нохчи…»
— «… Карман командует: вперед», — закончил уже знакомую нам песню Борис.
— Вот видишь, все знаешь. Пиши своему брату: если еще раз появится в Чечне без денег, возьмем в заложники и его. И пусть тогда попробуют выкупить двоих.
Борис нервно пишет, понимая свою обреченность, — если родственники пытаются освободить его без денег, значит, нужную сумму не смогли собрать. Да и где ее соберешь? С чего? Богатые в Чечню в самом деле не ездили, а он полтора года на свой страх и риск, по совести…
Снова все плохо, зыбко. Носки сносились. Их бы выбросить, но других нету…
В эту ночь, словно специально, охрана опять забывает в землянке лопату. Бдительность потеряна из-за гитары: ее попросил принести Махмуд, Борис настроил, спел несколько песен. Голос у него оказался красивый, и вспоминаю свои концерты: как же я давил ребятам на нервы! Но сами виноваты, могли бы петь и без меня.
После песен охрана уходит, а лопата как стояла, упершись в раздумье лбом о стену, так и осталась нетронутой. Переглядываемся с Махмудом, подходим к двери. Оглядываем стены вокруг решетки. Углубление можно сделать за час-полтора и, минуя растяжки, выбраться наружу.
Мысли о побеге вертелись всегда, и вот сегодня есть реальная возможность вырваться.
Но что дальше? Что после того, как поднимемся на ступени? Если делать ноги серьезно, то уходить придется в горы, через перевалы. На равнине, к тому же после вывода войск, нас отловят в первые два дня. Но в горах без теплых вещей, пищи и оружия делать нечего. Все это нужно брать здесь. Значит, кого-то убивать? На Хозяина рука не поднимется, на Че Гевару, Чику, Литератора тоже. Вообще-то парадокс. По отдельности каждый вроде и неплохой, а вот вместе… Вместе — отряд, где действуют законы стаи.
А тут еще Че Гевара на нравственность, сам не зная того, надавил. Признался накануне:
— Туда-сюда, когда вас водили с повязками, вы были абсолютно безразличны нам. А тут создали движение, сняли их, увидели ваши глаза — вроде и убивать теперь жалко будет. Прикинь, ерунда какая.
Но основное, что удерживает от побега, — боязнь за семьи. Домашние адреса известны из паспортов, и не успеем мы встретить первый же рассвет на воле, как звонки в Нальчик и Москву поднимут тех, кто отыграется на наших близких. А если еще и кровь прольем…
Так что, даже если минуем посты, пройдем минные поля и растяжки, перевалим хребты, отобьемся от волков и придем-таки к своим, тут же на коленях опять поползем в Чечню. Умоляя не трогать семьи. Плен — это личный крест каждого, и нести его только нам. Поэтому пусть хоть всю охрану снимут, пусть распахнут двери — не выйдем. Пока не договорятся те, кто занимается нами.
Махмуду, не имеющему пока семьи, с мыслью о беспомощности смириться тяжелее. Но времена, к сожалению, не кавказских пленников Льва Толстого: связь сделает месть быстрой.
Остаемся. Время чертить календарики на октябрь…
Расщепляю, расправляю очередную сигаретную пачку. Проволочкой пришиваю белый лоскуток к истрепавшейся, истершейся простынке, где зачеркнуты предыдущие месяцы. Пока помню практически каждый прожитый день — и когда расстреливали, и когда давали надежду. Перемещения помню. Разговоры. Значит, мы еще не долго маемся в заточении?
Подхожу к двери. Отодвигаю одеяло. По ступенькам топот — кто-то стоял у решетки и слушал наши разговоры. Пусть слушают, если не отваливаются уши. Их дело — охранять.
Тут же задумываюсь о своем равнодушии. Хорошо это или плохо? С одной стороны, приказал себе принимать происходящее как неизбежность, но и махнуть на все рукой… Нет, надо продолжать и удивляться, и негодовать, и радоваться. Большей частью про себя, конечно. По-моему, в том же Коране записано: «Аллах всемогущий. Сначала дай нам терпение, а только потом — страдания»…
Ох, война-война, дурость несусветная. Политики с обеих сторон наверняка уже бросились подсчитывать ее результаты и выгадывать свое будущее, социологи — проводить опросы и вычерчивать рейтинги. Военные, в очередной раз подставленные и, как всегда, оставленные одни против прессы, запрутся в городках. Родители погибших зададут один-единственный вопрос: «За что?» — но никто не даст им ответа — ни в Кремле, ни в Белом Доме. Потому что в собственной подлости и глупости мало кто признается. А лицами чернеть будут близкие тех, кто пропал без вести или захвачен в плен. От них же постараются каким-либо образом побыстрее отгородиться…
Все предугадываемо в этом мире.
Все?
17
Мы в очередной яме. Седьмой.
Накануне уложили в кузов грузовика, сверху забросали одеялами и привезли в какое-то селение. Машина въехала во двор, и нас прямым ходом — в узкий бетонный люк. Следом полетел нажитый за три месяца нехитрый скарб, собранный в землянке столь спешно, что невольно подумалось: или в лагерь с инспекцией приезжает кто-то из высшего начальства, или возникла реальная угроза нашего перезахвата.
Новый подвал длинен, узок, приплюснут. Школьный пенал.
С бетонного потолка, обтянутого сеткой «рабица», капает конденсат. Вдоль стен — лавки с белыми бляшками плесени. Укладываем на них одеяла, но доски от сырости легко переламываются пополам, выставляя острые, словно кости при открытом переломе, углы.
«Так изнутри сгнием и когда-то переломимся и мы», — мысль мелькнула сама собой, машинально отметилось, что, возможно, произойдет с нами через какое-то время.
В дальнем углу блестят крышки закрученных на зиму консервов — помидоры, огурцы, варенье. В любом случае с голоду хотя бы первое время не помрем. А вот что делать с сыростью…
— Ох, сынки, попали к бабке на старости лет в подвал, — слышим над собой голос.
В люк, став на колени, заглядывает старуха, жалостливо качает головой. Рядом резвятся детишки.
Мы немеем. Кажется, это самое глубокое потрясение за время плена. Когда держат в неволе боевики — это вроде нормально, как-то объяснимо. Но чтобы в подобном участвовали женщины…
Попытался представить маму — что бы она делала, если бы мы, ее сыновья, загоняли в погреб пленников. Прокляла бы, отреклась и выгнала из дома. А здесь — в порядке вещей. Конечно, в глазах наших тюремщиков — это не мы сидим, а сотни тысяч долларов копошатся в яме. А ради этого можно закрыть глаза… Вот только мама бы не закрыла.