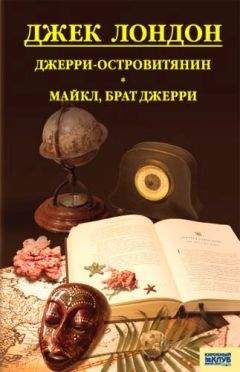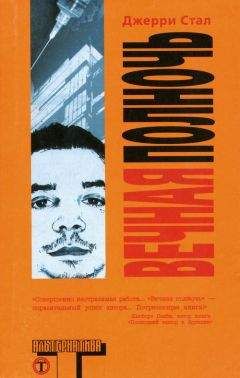Наталья Троицкая - Сиверсия
Хабаров долго молчал, сосредоточенно наблюдая, как только что подброшенные поленья лижут ярко-оранжевые языки пламени. Пламя струилось змейками и постепенно усиливалось и разрасталось.
– Я бы его отработал. В лучшем виде, – наконец сказал он.
Лавриков присвистнул.
– Сань, я думал, у тебя при выборе между жизнью и деньгами побеждает здравый смысл.
– Чушь! Наш шеф сильнее здравого смысла! – пьяно выкрикнул Орлов.
– Только с этой аферисткой я работать не буду.
– Саша, какая мадмуазель аферистка? Ее сроки поджимают. Она верхушек нахваталась. А ты… Ты, где бы убедить – вспылил.
– Мы не в детском саду. Я – не нянька! Она меня с потрохами приобрести хотела. Вроде пушечного мяса! Понимаешь?!
– Что тут нового? К нам, каскадерам, всегда относились как ко второму сорту, в лучшем случае. Саша, у нас самая сильная материальная база, опыта больше, чем у других, мозги, опять же. Да на тебя же пальцем будут показывать! Прости, я не хочу указывать на очевидное, но, по-моему, ты ведешь себя, как последний осёл.
– Плевать!
– Тот же Борткевич раздумывать не будет.
– Коля, конечно, смелый парень, – тоном вынужденного продолжать разговор ответил Хабаров, – только смелый он от глупости. Он или себя угробит, или кого-то из своих ребят. На месте новичка я бы крепко подумал, прежде чем записываться в его команду.
– Черт с ним, с Борткевичем! Я его тоже не люблю. Значит, они, те, кто даст «добро», такие же, как мы, ребята, как Женька, Володька, как я, в конце-концов, будут тыкаться по углам, как слепые котята, а ты знаешь правильное решение и будешь со стороны хладнокровно смотреть, как они себя гробят? Это, Саша, похлеще «русской рулетки» будет. Нервишки-то, шеф, выдюжат? Тихо! – сам себя перебил Чаев. – Мать идет.
Принесшая для пополнения запаса запотевший графинчик и аппетитно возлежащую на громадном подносе среди овощей и зелени дымящуюся фаршированную утку мать Виктора Чаева, Ирина Мироновна, тихонечко присела к костру, молчаливо и уважительно наблюдая за беззаботно балагурившими ребятами, которые во всех подробностях обсуждали последний футбольный матч.
«Господи, – думала она, украдкой смахивая слезу, – хоть бы они каждый день собирались вот так, все вместе, отдохнуть. Пили бы наливочку, пели песни, и были бы молодыми и счастливыми их лица. И не было бы этой удручающей синевы под нижними веками и измученного взгляда, как после месяцев трудной работы…»
Небо яркого солнечного дня бледно-бледно-синее и бездонное. У горизонта его край незаметно переходит в озеро. И небо, и озеро сейчас похожи, точно близнецы-братья. Ни лоскута облачка, ни дуновения ветра. Июльский зной затопил окрестности на сколько хватает взгляда, щедро, с размахом.
Вековые сосны на обрывистом озерном берегу стоят разморенные. По их янтарным пахучим стволам солнечными капельками то там, то здесь сбегает, капает на выжженную солнцем траву смола. От палящего зноя сосны плачут, и воздух напоен смоляным ароматом, терпким, чуть сладковатым, русским, своим.
Селигерский край. Россия…
Пляжный песок дышит жаром, точно добротная печь, и потому лежать на низеньком деревянном лежаке, да еще под палящим солнцем, мучительно неприятно. Он бы сказал точнее: мерзко. «Мерзко» было его любимым словом. Иногда оно заменяло собою целую гамму понятий, ощущений и превосходно характеризовало окружающее.
Никита Осадчий мог позволить себе немногословность. Когда-то немногословность была необходимостью, потом перешла в привычку, а свои привычки он не считал нужным менять, как не считал возможным для себя обращать внимание на такой пустяк, как жара и связанные с ней неудобства.
Четверо крепких парней, одетых, как один, в строгие черные костюмы, стояли здесь же, на пляжном песке, неподалеку, застывшие, как изваяния, терпеливо обливаясь потом. Пятый, щупленький, с лицом вьетнамца, без возраста, нервозно переступал с ноги на ногу, заключенный охраной в своеобразный квадрат.
Чуть слышно, едва-едва, плескались волны, надсадно стрекотали кузнечики, где-то далеко, на самой середине озера, переговаривались, что-то покрикивая друг-другу, одинокие рыбаки. Крохотная деревушка на холме справа. Запах сена. Апатичные пузатые черно-белые коровы на пестром лугу…
После московской суеты Никита Осадчий наслаждался деревенской пасторалью.
– Никита, кончай это представление, – наконец не выдержал, произнес «вьетнамец».
Молниеносный удар под дых и еще один сверху по затылку заставили его замолчать, рухнуть кулем на горячий пляжный песок.
– Очухается, давайте его ко мне, – процедил Никита Осадчий.
Он поднялся с лежака и пошел в дом – белоснежный особняк на берегу.
Очевидно, для того, чтобы привести в чувство, бедолагу просто макнули в озеро, потому что пару минут спустя он предстал перед Осадчим промокшим до нитки.
– Я не спрашиваю, почему ты пришел ко мне в таком непотребном виде, – лениво потягивая морковный сок, произнес Осадчий. – Видимо, ты промок от слез. И я хотел бы думать, что это – слезы раскаяния.
Брюс Вонг молчал. Левой рукой он потирал затылок и дерзко смотрел на Осадчего.
– Осуждаешь?
– Никита, хочешь, чтобы я ответил?
– Триста километров в багажнике, конечно, неприятно. Но напрасно ты пыжишься, Брюс. Вина за тобой.
Брюс простер руки, подался вперед, словно стараясь быть более убедительным, но охранник остановил порыв.
– Никита, мне что, жить надоело?! Да я…
– Остынь! – оборвал его Осадчий. – Я не для того оставил столичные интерьеры, чтобы услышать мерзкую ложь от человека, которого ценил. Заметь, о тебе я говорю в прошедшем времени.
– Да чтобы я упал на хвост?![16] Я не деревянный по пояс![17] – завизжал Брюс. – Я же себе ни одной цифры![18] Понт не навожу.[19] Чтоб мне «крысой» сдохнуть!
– Забожился… – усмехнулся Осадчий.
Он медленно подошел к гостю, и своими короткими крепкими пальцами обстоятельно взялся за левое ухо Брюса Вонга и с силой крутанул. Тот взвыл от боли, слезы заблестели на глазах.
– «Стекляшки» любишь! Я тебе брюхо ими набью. Жрать заставлю! – прошипел Осадчий. – Все до пылинки в «копилку» вернуть!
– Никита, я…
– Говорить будешь, когда я позволю. Я еще не закончил с тобой. Ты же знаешь, что я не люблю, когда мой дом «феней» оскверняют. Совсем русский язык забыли. Мат да «феня». Оскотинились.
Он отпустил ухо и, по-домашнему шаркая шлепанцами, пошел на веранду, с которой открывался замечательный вид на озеро. Опершись о перила, Осадчий какое-то время любовался окрестностями, потом со вздохом сожаления сказал:
– Ай-ай-ай, Брюс, такой ты мне день испортил. Такой день! Я, может, ради таких дней и живу. Чтобы без суеты, без надрыва, без надоевших лиц, один на один с Россией-матушкой. Красота-то кругом какая! Не пошлое Рублевское шоссе. Места нетронутые – царство Берендея, легендами опутаны. Иди сюда. Смотри, остров напротив. Я был там. Удивительно красивое место. Тринадцать внутренних озер. Заметь, Брюс, не двенадцать, не четырнадцать, а тринадцать. Не правда ли, в этой цифре есть какой-то магический смысл…
Брюс Вонг внимательно следил за каждым жестом, малейшей интонацией Осадчего, тщетно силясь понять, куда же он клонит. Лирические отступления были абсолютно не в духе Никиты. Оказалось, и это Брюс отметил про себя, они изматывают еще больше, чем просто выяснение отношений, когда «разбираются по понятиям», потому что не знаешь, чем все может закончиться.
– …и тогда я стал думать, какой? – продолжал Осадчий. – С виду все пристойно. Берега, поросшие камышом и осокой. По водной глади дикие утки плавают. Никакой магии. Разгадку подсказали местные рыбаки. Представляешь, Брюс, утонувший во внутренних озерах никогда не всплывает. Его быстро засасывает в ил. Дно очень рыхлое, илистое. И – Царствие Небесное!
Он мгновенно развернулся и, резко выбросив вперед правую ногу, ударил Брюса в пах.
От удара Брюс засипел, опереточно выпучив глаза, и стал оседать на колени, трогательно прикрываясь шлепанцем Осадчего, почему-то оказавшимся у него в руке. Осадчий поймал его за волосы и очень доверительно сказал:
– Я тебе, дерзкий, сказки за тем рассказываю, чтобы ты выводы сделал. Или – на остров. Выбирай!
Небывалый июльский зной затопил душный город. Жарились крыши. Дома распахнули окна настежь. Изнемогали от жары укрывшиеся в жидкой тени деревьев горожане. Безжалостное солнце многообещающе застыло на полуденной отметке небесного циферблата, готовое расплавить все, до чего могло дотянуться лучами.
Спасаясь от полуденной духоты мегаполиса, Хабаров торопливо собрался: парашют, скайборд, шлем, очки, костюм-комбинезон, еще бросил в спортивную сумку два яблока и бутылку минералки.
Теперь – прочь! Прочь из духоты, из суеты, прочь из, надоевшей до тошноты рутины, туда, где ветер пахнет полынью, где полевые ромашки мотыльками трепещут на ветру, туда, где пронзительно-синее небо величественно и гордо выставляет напоказ вернисаж акварелей легких перистых облаков, туда, где ты будешь свободен он земных оков, как птица, как мечта, как песня.