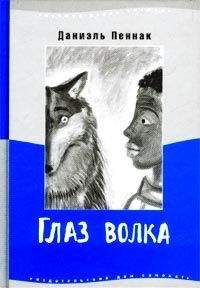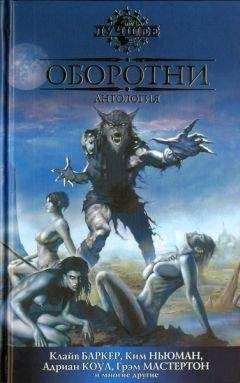Скотт Стоун - Песня волка
— Это очень сложно, дедушка. Ты ведь знаешь, что я испытываю к горам. И все-таки…
— А там, где ты теперь живешь, там есть горы?
Совсем другие, и люди там не похожи на наших и все-таки такие же. Я всегда буду чувствовать, что эти горы, эти места — мой дом. В сердце своем я всегда буду здесь… и там. И есть некоторые кажущиеся одинаковыми вещи. Есть там горделивые мужчины, есть и бедняки. Об Азии я много чего слышал. И хочу узнать больше, почувствовать се своим существом.
— Аниюнвийя всегда были странниками, так что я понимаю. Но нам будет тебя не хватать.
— Я вернусь, дедушка.
— Расскажи о войне.
— Рассказывать об этом очень непросто. Если я скажу, что в бою мне нравилось куда больше, чем на привале или на побывке в Японии, то меня сочтут чокнутым убийцей. Но, убивая, я не испытываю наслаждения. И считаю, что война — глупейшее времяпрепровождение. Но ты должен меня понять, дедушка: это все равно, что выслеживать оленя. Ты начинаешь понимать, что за прелесть этот ветер, небо, каков сегодня день, ощущать теплоту нежнейших облаков, вкус воды. Все возвращается к основным понятиям, и то, что важно, вновь обретает свою важность. Все дерьмо валится до той точки, в которой жизнь становится целью сама по себе, а каждый вздох и выдох — победой.
— Продолжай.
— Знаешь, лучше всего я поел как-то ранним утром в Корее — лучше всего в жизни. Мы пришли в расположение части с передовой после нескольких недель полуголодного существования, немытые, измотанные до предела. Меня с еще одним морпехом попросили заехать в штаб Восьмой дивизии за аэрофотокартами. Это было рано утром, и мы не успели ни поесть, ни помыться. А мы еще вечером договорились: сразу же после помывки засесть за плотную еду. Но прежде всего отправились в штаб. И только вошли, как увидели огромный кофейник с горячим кофе, огромные крекеры и здоровенную банку с джемом. Нас пригласили не стесняться. Я сел на капот «джипа» и стал есть крекеры с джемом и запивать их кофе; Утро было свежим и прохладным настолько, что даже моя полевая куртка, просоленная потом, показалась мне приятной. И воспоминание от этого завтрака у меня осталось такое: я никогда, ничего вкуснее не едал.
— Что еще?
— А еще как-то раз мы были прижаты огнем китайских орудий к склону холма и не видели способа оттуда вырваться. И думали о том, что через несколько минут все погибнем. А китайцы как-то по-китайски пользуются артиллерией: просто пуляют в вас безо всякой системы — и все. Последний снаряд взорвался прямо перед нашими носами, и мы думали, что следующим нас накроет. Но этого выстрела так и не последовало — мы до сих пор не знаем почему. Они просто прекратили стрелять. Может быть, боеприпасы кончились.
— Ты носишь свой амулет?
— Всегда. Так вот, Таводи, пойми, что через шестьдесят секунд после того, как взорвался последний снаряд и мы поняли, что, видимо, выживем, я почувствовал в легких такую сладость воздуха, какой до тех пор не знал. Мне казалось, что я могу видеть мир вокруг, понимаешь, вокруг себя, и к тому же не только протяженность на расстоянии, но и во времени. И тогда я подумал о том, что же именно произошло со мной: я видел перед собой время, потому что там, где минуту назад оно заканчивалось, ничего больше не было. Я чувствовал, что могу заглянуть за горизонт, в будущее. Мне было бы нипочем не узнать, что такое возможно, если бы я не оказался в том месте, в то именно время. Это огромная для меня удача.
— Итак, Уайя-юнутци, теперь для тебя каждый день и каждая секунда — дар.
— Точно — премия.
— И как же ты ею распорядишься?
— Я пока что знаю настолько мало, что не смогу принять верное решение. Мне многое необходимо познать. Например, таэквондо.
— Что это такое?
— В буквальном смысле — искусство рук и ног. Точнее — искусство владения руками и ногами. Форма борьбы без оружия, но на самом деле в ней сокрыто гораздо большее. Это стиль жизни, форма упорядоченного существования. Оттачивает тело ничуть не хуже разума. И еще я хочу изучать азиатских мыслителей. У нас они практически неизвестны, но я сумел обнаружить в них поэтичность — и какую! Они могли в нескольких словах сказать очень много. Например, один китайский поэт — Ли По — однажды писал про уходящую жизнь. Он сидел па берегу стремнины, смотрел, как отцветающие растения сбрасывают лепестки в воду и их уносит водой, и писал об этом: «Персиковый цвет уносят воды».
— Людей, умеющих слагать песни, очень ценили и почитали аниюнвийя.
— Да. И есть такой стиль в классической корейской поэзии — сихо, — так вот его можно произносить или же напевать. Как-то раз я прочитал стихи анонимного поэта в стиле сихо, и они напомнили мне о тебе, Таводи.
— Можешь прочитать?
— Конечно. Слушай:
«В воды кануло отражение,
через мост священник переходит.
Я спросил: скажи, куда ты?
Не ответил он — головы не повернул.
А поднял лишь трость, указав
на табун летящих облаков».
— Хэй-йех!
— Да.
— Ты говорил Старлайт, что собираешься поступить в колледж,
— Когда-нибудь, дедушка. В этом мне поможет правительство, и я буду неплохо зарабатывать, ведь я побывал на войне. Но колледжи есть и в Азии, и я думаю, что буду поступать в один из них.
— Уайя, мне кажется, мы потеряем тебя в тех твоих новых местах. Каждый мужчина должен идти своим путем. Я прошу тебя никогда не забывать в своем сердце об аниюнвийя. И приезжай сюда, в свой дом, когда сможешь. Мы будем ждать тебя — твои горы, твоя семья и твоя память.
Часть вторая
В конце железнодорожной ветки он «поехал» в тележке, запряженной быками. На самом же деле, Дэйн брел рядом и повторял название храма Уиджонбу. Через несколько миль мальчик в повозке сказал ему что-то по-корейски и указал на возвышавшуюся перед ними гору. Между вершинами, в просвете, он увидел крышу храма и пошел по направлению к ней.
Было чертовски холодно, и Дэйн с благодарностью кутался в оставшуюся со времен войны парку. Здесь, в Центральной Корее, он перевидал много военной одежды. Шапки Дэйн не носил, зато на ногах у него были крепкие ботинки, и чувствовал он себя превосходно. Год тренировок закалил его выше всяческих ожиданий.
Пробравшись сквозь кустарник, Дэйн прошел между деревьями, искореженными безжалостным зимним ветром. Облака лежали почти что на земле и обещали снегопад. Внезапно перед ним возник храм огромное четырехугольное здание, выполненное из какого-то неизвестного Дэйну камня. С массивной деревянной дверью, возле которой висела веревка. Дэйн потянул за нее, и где-то в глубинах храма раздался низкий вибрирующий звук. Через несколько секунд дверь отворилась.
Перед Дэйном стоял молодой монах в сером халате, подпоясанном на талии. Он безо всякого удивления посмотрел на Дэйна и пригласил его войти. Дэйн прошел в большой прямоугольный двор и увидел множество построек, некоторые из которых высотой были в два этажа.
— Я хотел бы увидеть мастера Кима, — сказал он.
Монах кивнул. Дэйн догадывался, что он понял только имя — Ким. Он прошел следом за монахом за угол здания и углубился в храмовый комплекс. Вокруг него двигались монахи, некоторые тащили мешки с рисом, другие — иную снедь. Подойдя к какому-то большому зданию, монах открыл дверь. Дэйн прошел за ним следом в небольшую прихожую. На степе висело вырезанное из дерева изображение Будды, а внизу стояла плошка с углями. Дэйн почувствовал исходящее от них тепло, но остался стоять в стороне, с любопытством поглядывая во внутренние покои.
— Ты можешь войти, — сказал монах и исчез.
Дэйн прошел в зал, одновременно знакомый и неизвестный. Некоторые приспособления он с разу узнал: бревно, мешки с песком, груши, доски. Но они были какими-то незнакомыми. Были и совершенно иные. Например, оружие. По стенам зала висели копья, цепи, ножи и какие-то метательные орудия очень странных форм. Дэйн стоял, вбирая все это в себя и ощущая силу, царящую в этом зале. И только через некоторое время разглядел фигуру сидящего человека в дальнем углу доджанга. Дэйн глубоко поклонился ему и, выпрямившись, начал с любопытством его оглядывать.
Человек был Не молод, но и не стар. Он был среднего роста, длинные волосы он завязал сзади белой лентой. Остальная одежда состояла из обычных белых полотняных ги-штанов и куртки ученика таэквондо. На талии был повязан в традиционной манере длинный черный пояс.
— Мастер Ким?
Сидящий человек взглянул на Дэйна и ответил. Голос был глубокий, без акцента.
— Говорить можно только, когда к тебе обращаются. Делать только то, что приказано. Ни ко мне, ни к другим учителям нельзя обращаться, пока мы сами этого не попросим. — Он замолчал, и во время этой паузы Дэйн снова поклонился, но не произнес ни слова.
— Садись.
Дэйн сел, скрестив ноги, на пол и только тогда почувствовал всю яростную силу ветра за пределами здания и тишину, царившую в сумрачной комнате. Между ним и сидящим корейцем было никак не меньше тридцати футов пустого пространства.