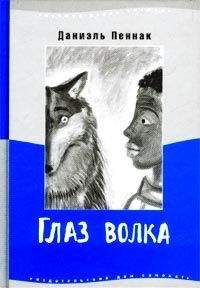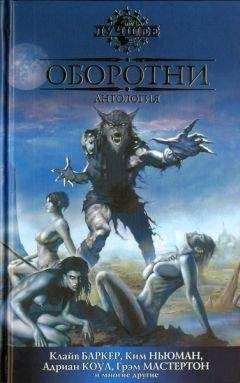Скотт Стоун - Песня волка
Утром он первым делом сунул руку под подушку, пытаясь нащупать нож, который всегда держал при себе. Вспомнив, где находится, он прошел в ванную комнату, вымыл лицо, вытерся руками и стряхнул с них воду.
Войдя в комнату, он увидел, что женщина прибирает постель. На ее лице блуждала девчоночья улыбка, несмотря на то, что само лицо явно принадлежало женщине средних лет.
— Охайюоо гозьемацу, Дэйн-сан, — произнесла Кацуко нараспев.
— Утро доброе, — ответил он.
— Как спалось?
— Очень хорошо.
— Со, дэсука. Я рад. — Она снова улыбнулась, и Дэйн улыбнулся в ответ.
Она принесла горячий чай, рыбные пирожки и рис, и Дэйн с удовольствием поел. Когда выяснилось, что на сегодня у нее не запланировано никаких уроков, он предложил ей сходить куда-нибудь и пообедать. Но у женщины была припасена идейка получше.
Через два часа они вдвоем оказались где-то на окраине Токио — шумели высокие сосны, и дул свежий ветер. Сели под деревом, и Кацуко принялась рассказывать Дэйну о Японии.
— Ты, наверное, хорошая учительница музыки, — сказал он.
— Ты думаешь?
— Ты очень хорошо рассказываешь. Наверное, учиться у тебя интересно.
— Мне нравится говорить ты, — она слегка кивнула и улыбнулась.
— А ты сыграешь мне опять на пианино?
Ее глаза омрачились.
— Не знаю, Дэйн-сан.
— А в чем дело?
— Ты не понять.
— Постараюсь.
— Это очень печально и очень по-японски, Ты американец, ты не понимать.
— Я лишь частично тот, о ком ты думаешь, как об американце. Прежде всего я — аниюнвийя.
— Это ничего не значить, — она качала головой, — понимать только японцы.
— И все-таки, — не отставал Дэйн.
— Очень сабиши — очень печально, очень красиво. Женщина много старше тебя, маленькая японская шлюшка, которой ты сделал очень хорошо. Но ты нельзя оставаться. Я не мочь уйти. Если я слишком долго тебя видеть, то становиться очень сабиши и может потом убивать себя. Потому что ты заставлять меня стыдиться то, что я есть.
— Ты учительница музыки, которая делает то, что должна делать.
— Я шлюха, и я много тебя старше.
— Кацуко…
— Я решиться, — сказала она и встала с решимостью во взоре.
— Хорошо, — согласился Дэйн, — пошли.
По пути домой она не смотрела ему в глаза. Выйдя из машины, он не отпустил ее. Стоя перед низкими воротами, Дэйн смотрел, как женщина плачет.
— Кацуко, мне бы хотелось тебя отблагодарить, — сказал он и попытался впихнуть ей в ладонь несколько бумажек. Слезы текли по ее лицу — она качала головой. Как-то внезапно, нелепо она попыталась вырваться, вырвалась и захлопнула за собой ворота. Дэйн развернулся и втиснулся в такси.
Машина остановилась перед клубом «Рокер Фор», где собирались солдаты, выпивка была дешевой, а еда вполне пристойной. Дэйн пропустил несколько стаканчиков, сидя за стойкой и стараясь просеять свои чувства.
Но — ничего.
Дэйн написал:
Я нанизал свои иллюзии на нитку с бусами,
помещая их строго в рисунке, подходящем какому-нибудь самоубийце,
не зная координат промахов.
Четки, круглые стеклянные бусы — безделушки
жизни.
Когда нитка рвется — бусины исчезают.
В первый день прибытия после отпуска в Корею Дэйн выбрался из «С-4,» и почувствовал, как ветер и пыль завиваются вокруг посадочной полосы К-16, находящейся за рекой Хан, напротив Сеула. В Сеул его подбросил в армейском «джипе» какой-то моряк. Толстый армянин. Проезжая по металлическому мосту, они увидели крутящееся на веревке тело, висящее на высокой балке.
— Северокорейский шпион, — сказал матрос, не вдаваясь в детали. Он был корректировщиком бортового огня и посему почти полностью оглохшим на правое ухо. Дэйн не делал попытки разговорить его.
«Джип» подкинул Дэйна к штабу расположения морских пехотинцев ВАСШ в Корее — Восьмой Армии Соединенных Штатов. Штаб располагался в университете, и Дэйн подумал о том, что вот и он наконец-то попал в свой кампус. Задолбанный сержант взял увольнительную Дэйна и сказал, что постарается переправить его в подразделение, которое перекинули в местечко, находящееся в нескольких милях от Уид-жонбу, в центральной части Южной Кореи. В ту ночь Дэйн почивал на кровати прямо в штабе ВАСШК, довольный тем, что до прибытия в часть ему не придется идти ни на какие опасные задания.
На следующее утро он оделся в боевую форму и стал медленно прохаживаться по городу.
Сеул перешел из рук в руки, и повсюду можно было лицезреть последствия этого. На целые мили тянулись развалины, по которым бродили одни лишь дети и крысы. Над городом нависла какая-то серятина, и она лишь частично объяснялась серостью бетонных зданий — это была аура отчаяния, с сохлым ртом и вздувшимся животом нависшая над поверженными артиллерийским огнем строениями. Завернув раз за угол, Дэйн увидел маленькую девочку лет пяти-шести, умолявшую его дать ей еды и тащившую на руках грудного младенца, словно можно было бы выпросить с его помощью дополнительную пайку. Взглянув на малыша на руках, Дэйн увидел, что он уже несколько дней как мертв. У него ничего с собой не было, и он показал девочке пустые руки и вывернул карманы. Та быстро отошла и пошлепала в своих лохмотьях дальше в поисках следующих доброжелателей. Мертвого ребенка она несла с огромной осторожностью. Дэйн подумал о том, сколько еще она будет его таскать.
Этой ночью он снова спал в штабе ВАСШК, но не смог заставить себя ничего съесть. Отправившись на следующее утро завтракать, он унес практически все с собой и пошел на то же самое место, где вчера встретил девочку, но так и не смог ее найти. Отдав еду двоим маленьким нищим, он разыскал сержанта и потребовал, чтобы тот нашел ему возможность отправиться в свое подразделение, — его мутило от голода.
Совсем другое дело — природа.
Другие морпехи считали Корею адовой дырой, Дэйна же она приводила в восторг. Его пленили целые мили невозделанной, такой родной земли, покрытой похожей на шалфей травой и деревцами кустарникового типа. Деревья, скалы, и горы смотрелись скульптурно, словно поставленные здесь на выставку произведений старинного искусства. Крошечные деревушки были полны домами, выстроенными квадратом, внутри — дворики, где держали животных. Дома были простыми, но удобными, и, когда Дэйну удалось обследовать один из них — брошенный хозяевами, бежавшими от артиллерийского огня, — он почувствовал себя дома. Дом очень походил на горную хижину, построенную им и Таводи.
К тому же Дэйна очень интересовали люди, казавшиеся ему какими-то изначальными и очень ранимыми по сравнению с большинством жителей Запада, которых он знал. Ему нравилось смотреть на стариков в высоких остроконечных шапках и шляпах, развевающихся халатах и с белыми бородами. Они могли переносить на А-образных деревянных рамах невероятные тяжести, а когда садились покурить длинные трубки с маленькими медными чашечками, то по духу достоинства, которым от них веяло, напоминали ему его дедушку. Если откинуть жестокость и превратности войны, думал Дэйн, то они утонченные и изысканные культурные люди.
Ночью, лежа на койке, он думал о том, что с ним произошло. Он знал, что должен быть с собой совершенно откровенным, если вообще сможет прийти к каким-либо заключениям. Ему не хватало Таводи, с которым он мог бы все обсудить.
Ему казалось, что, когда он отправляется на ночное патрулирование и знает, что во тьме есть другие люди, все важное вновь становится важным. Его восприятие обострялось; он начинал думать быстрее и лучше соображать. Движения столь четко координировались мозгом, что он не задумывался, а действовал лишь по наитию, инстинктивно. Сражения диктовали собственную насмешку и собственное отчаяние, но, чем ближе Дэйн подбирался к возможной смерти, тем сильнее начинал понимать и принимать жизнь и возгорался ощущением всего живого, что было вокруг него. Если бы кто-нибудь спросил его — зачем он снова кидается в атаку, Дэйн бы ответил: за ясностью.
Добравшись на третий день до расположения своего подразделения, он обнаружил Пятую Бригаду на нескольких низеньких холмах, с одного фланга прикрываемую южнокорейской дивизией, а с другого — канадской частью. Также ему рассказали, что майор Кроули вышел как-то ночью по нужде и наступил на маленькую мину, которая разорвала его практически пополам.
1956
— И вот ты стал человеком с двумя сердцами, Уайя-юнутци.
— Похоже на то, дедушка.
— Рассказывай.
— Это очень сложно, дедушка. Ты ведь знаешь, что я испытываю к горам. И все-таки…
— А там, где ты теперь живешь, там есть горы?
Совсем другие, и люди там не похожи на наших и все-таки такие же. Я всегда буду чувствовать, что эти горы, эти места — мой дом. В сердце своем я всегда буду здесь… и там. И есть некоторые кажущиеся одинаковыми вещи. Есть там горделивые мужчины, есть и бедняки. Об Азии я много чего слышал. И хочу узнать больше, почувствовать се своим существом.