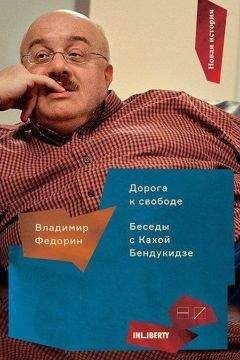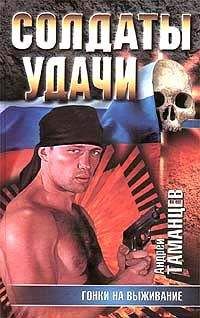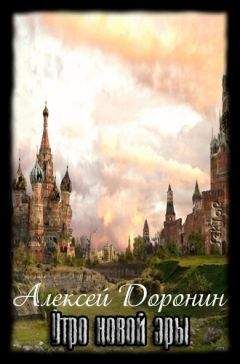Андрей Таманцев - Леденящая жажда
— Эй, кто-нибудь! Вызовите «скорую»! Господи! Помогите мне! И все вон из комнаты!!!
Соня метнулась на крик.
То, что она увидела, было похоже на страшный сон. Пол был усеян осколками стекла, повсюду брызги, и среди всего этого хаоса лежал Леша, тяжело дыша и корчась в судорогах. Он умирал.
Соня поняла это сразу, как только оказалась на пороге.
Все вокруг метались и суетились, Семенов орал как резаный. А ей вдруг стало смешно. Нет, даже не смешно, а как-то запредельно ужасно, когда только смехом и спасаешься.
Никто и ничто не могло остановить приступ заливистого смеха, тонкого и надрывного. Впрочем, всем было не до нее: кто-то хлопотал вокруг распростертого на полу Кукушкина, некоторые пытались убрать с пола осколки.
Кукушкин несколько раз дернул головой, потом рукой, правой — четко отпечаталось в сознании. Потом пришли в движение ноги — по телу проходила волна смерти. Не более чем минутные конвульсии превратились для нее в бесконечный страшный спектакль. И даже много лет спустя, закрывая глаза перед сном, она продолжала раз за разом проживать эту внезапную, страшную смерть.
Потом все кончилось — и наступила тишина. Все стояли вокруг того, что еще недавно звалось Кукушкиным, постоянно выпендривалось, то и дело демонстрировало свой мерзкий характер, а теперь стало всего лишь энным количеством килограммов отравленной плоти.
Соня тяжко икала, смех перешел в болезненные спазмы.
— Соня, что произошло? Зачем ты это сделала? Соня обернулась как от выстрела. Икота тут же прекратилась.
— Я? Что я сделала?!
— Ты его убила!
— Tы дурак, Семенов! Что ты несешь?! Меня тут и близко не было. Это ты здесь был! Ты же все видел!
— Да, я видел! Знаешь, что я видел? Когда я вошел в кабинет, он стоял над столом и, как всегда, возился с пробирками. И вдруг берет и подносит склянку к губам и… Он сказал: «Прости, Соня».
Соня почувствовала, как горло словно сдавила петля. Не вздохнуть. Только слезы из глаз.
Она не могла ответить, не могла выдавить из себя ни звука. Семенов обхватил ее, прижал к себе.
— Ну тихо, тихо…
И только после этих слов она упала на колени, завыла, закричала, забилась в истерике. Она плакала довольно долго.
— Это кто сделал? — Тихий голос прозвучал почему-то страшно громко.
Два человека, те самые консультанты в штатском, стояли на пороге.
— Кто его убил? — наклонившись к трупу и прощупав пульс, спросил угрюмый.
— Он сам себя убил, — сказал Семенов. — Он выпил отравляющее вещество.
— Ясно, — сказал тот, что с залысинами, — неврастеник. Где его документы?
— Паспорт? — спросил Семенов.
— Нет, результаты исследований.
— Здесь. — Семенов показал на сейф Кукушкина.
— Откройте.
— Но у меня нет ключей.
Угрюмый наклонился над трупом, обыскал его и выудил связку ключей.
— Эта?
— Наверное.
Угрюмый испробовал несколько ключей, пока нашел нужный, открыл сейф и замер. В железном ящике было пусто.
— Сволочь, — сказал угрюмый.
…Когда посиневшее тело Кукушкина оказалось на носилках, вокруг уже не оставалось следов недавнего «ядовитого погрома». Стерильная пустота. Безжизненный холод.
Труп накрыли простыней и понесли в машину.
Соня не стала провожать носилки, за мертвым телом вообще никто не шел.
Она увидела только, как носилки затолкали в труповозку. Машина отъехала от подъезда.
Соня кинула последний взгляд на руины того, что они все вместе строили, и очень пожалела, что яда больше не осталось.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Глазов
27 июня 200… года, 17.20
Отойдя от больницы на довольно приличное расстояние, Трубач опустился на скамейку. Небольшой скверик, здание больницы желтеет сквозь деревья, кажется, что оно далеко-далеко. Он отвернулся
Не было ни сил, ни слез, только какая-то темная, неизбывная злость.
К чему теперь кого-то спасать, если он не спас сестру? Светки больше нет. Он не успел, он не смог… Надо поехать домой, забрать оставшиеся там вещи и…
Может, снова поехать в Чечню? И бить врага на его территории? Он был уверен, что все произошедшее — дело рук чеченских бандитов. Нет, если уж мстить, то нужно начинать здесь… Но как же на них выйти?
Возникло дискомфортное и вместе с тем знакомое ощущение: как будто ему целятся в спину. Он быстро оглянулся — на скамейке неподалеку сидел странный тип и не сводил с него глаз.
Действительно странный: длинные седые волосы, черный берет, черный старомодный плащ (это летом-то!) и разноцветный женский зонтик-трость. В лице что-то отвратительное, птичье…
Вот нет никого сейчас на улице: все либо больны, либо ухаживают за больными. А этот сидит тут и смотрит. Может, догадывается даже, что у меня кто-то умер, и, кажется, наслаждается этим. Причем смотрит в упор, нисколько не смущаясь. Животные, кажется, так вызывают на бой.
Трубач, решив ответить на этот вызов, направил свой взгляд на противоположную скамейку. Странный тип засуетился, начал выписывать зонтиком какие-то кренделя в воздухе, — потом встал и пошел… в его сторону.
Так, вызов принят! Трубач встал и шагнул незнакомцу навстречу. Но странный тип остановился в трех метрах от него, снял берет и, склонив голову, пробормотал:
— Вечер добрый!
Трубач растерялся, не сразу сообразив, что на это можно ответить. Тип уселся на скамейку, с которой только что встал Трубач, и огорошил его вопросом:
— Что, плохо?
И Трубач вдруг ответил искренне:
— Плохо.
— Совсем плохо?
— Совсем.
— Летальный исход?
— Что?
— Смерть, спрашиваю?
— Откуда ты знаешь?
— По глазам вижу
— Издеваешься?
— Не издеваюсь ни капельки.
На указательном пальце татуировка. Какой-то странный рисунок, где-то Трубачом виденный. Но где? Нет, так с ходу не вспомнить.
— Сейчас у каждого человека в этом городе кто-то умер. И каждый по- своему оплакивает. Вы вот, например, очень красиво переживаете — смотреть любо-дорого, — отвратительно причмокивая на каждом слове, продолжал странный человек.
— Слушай ты, эстет! Сейчас ты у меня тоже будешь оплакивать — себя самого, погибшего не очень красивой смертью.
Трубач отвечал в сердцах, не замечая некой нелепицы в собственных словах.
— Ну-ну-ну… Не надо грубостей! Вы уцелели, я уцелел… Я же с добрыми намерениями подошел. Посочувствовать, так сказать. А вы…
— За такое сочувствие…
— Умоляю, только не по лицу… только не по лицу… мне им еще работать!
— На утренниках Бабу-ягу играть?
— И это тоже. А как вы догадались?
— А ты на другое не годишься.
— Нет, правда, неужели вы меня узнали? Вы были на моих спектаклях? Вот уж действительно сюрприз. Меня узнают на улицах! Наконец-то дожил до счастливого дня… Эх, мама, мама, совсем ты немного не успела, увидела бы, как твой сын известным артистом сделался…
«Нет, таких артистов не бывает! Он явно переигрывает! Но зачем? Что он тут вынюхивает? Что ему от меня нужно? Пока еще ничего определенного он от меня не услышал. Нет у них, что ли, кого-нибудь профессиональнее? Но просто так ты от меня не уйдешь…»
— А что с мамой?
— Да тоже вот скосила ее чума-то эта…
— Чума? — Трубач заметно вздрогнул. Этот тоже про чуму. Словно читает его мысли.
— Да-да. Конечно же чума. «Царица грозная чума теперь идет на нас сама и льстится жатвою богатой…» Вот лежит моя матушка на столе холодном, а я даже поплакать над ней не могу.
— Почему?
— Ну я же актер! Настоящие чувства испытывать не привык. Вроде бы сейчас и пострадать готов — ан нет, не могу: то монолог Лира на языке вертится, то слова Вальсингама… А оплакать мать по- настоящему, по- человечески — слабо.
«Что ж, что-то в этом артисте все-таки есть. Красиво придумал. Такие обычно и бывают маньяками. С виду мелюзга мелюзгой…»
— Даже посочувствовать тебе не могу.
— И не надо. А может, слушай: «…зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы И, закатив пиры да балы, восславим царствие чумы…»?
«Вот. Наступил момент. Это он специально меня провоцирует. Тем лучше!»
Трубач неторопливо встал. Спокойно, без лишних движений взял субъекта за шею:
— Я тебе восславлю!
Субъект не на шутку испугался, попытался вырваться — не получилось. Забегали глаза. Лицо покрылось красными пятнами. Скосил глаза направо, потом налево — помощи ждать было неоткуда.
— Но-но! Вы меня неправильно поняли… Это же Пушкин!
— Странное время для поэзии. — Трубач начал слегка сжимать руку; — Выкладывай. Что ты тут вынюхиваешь?
— Вынюхиваю? Странный вопрос! Ничего… Отпустите! Я задыхаюсь… Вы сумасшедший!
Но Трубач уже и так не держал его.
Почувствовав свободу, странный этот человек как ни в чем не бывало уселся снова на скамейку и с видом закиданного камнями, пророка нараспев продолжил: