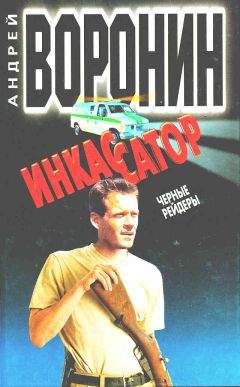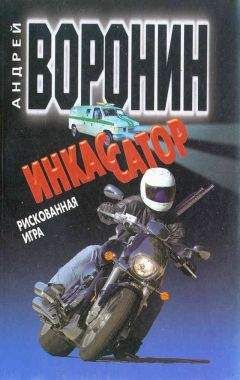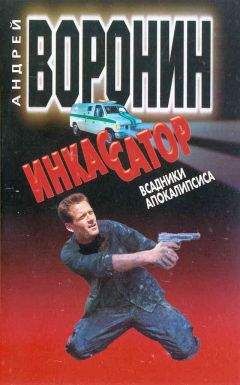Андрей Воронин - Инкассатор: Золотая лихорадка
– Идем, поможешь домовину с чердака снять... – позвал старик.
Гроб, стоявший недалеко от дверцы, был прост, сколочен из сосновых досок, скорее всего несколько лет назад – дерево успело потемнеть. Внутри он был ничем не обит – это предстояло сделать сейчас. На крышке выступал приколоченный гвоздями крест. Больше на чердаке почти ничего не было, кроме старого сундука, запертого на висячий замок.
Они обвязали гроб веревками, подтащили к дверце чердака и спустили на землю. Поставив его на два чурбака, дед принес из хаты белую ткань, гвозди и молоток.
– Не жаловал я Ядвигу, не наш она человек, ну да свое она получила. А ты из каких будешь – тоже Ольшевский? – вдруг спросил он.
– Да, – автоматически ответил Филатов и добавил:
– Юрием меня зовут.
– А-а, – без выражения произнес дед, продолжая обивать гроб. До самого приезда «скорой» с врачом он не произнес ни слова. А Юра даже не подумал о том, что приезжие могут его узнать, хотя и бояться было нечего: привычный к подобной процедуре доктор, едва взглянув на уже обряженную старухами, но еще не положенную в гроб покойницу, сразу присел за стол и занялся составлением справки о смерти.
– Пусть родственники в загсе свидетельство получат, – буркнул он и поспешил к дверям, за которыми сразу же послышался шум отъезжающей машины. Дед с Филатовым подняли почти невесомое тело Ядвиги и положили в установленный под образами гроб, подложив под голову белую подушку. Бабки разошлись до вечера по домам, сказав, что на закате придут читать над покойницей.
– Идем, могилу рыть надо, – проговорил дед.
– Подождите, Степан... Как по батюшке?..
– Антонович... Откуда знаешь, как меня звать-то?
– Ядвига Юрьевна говорила... – Юра вытащил так и не начатую вчера бутылку коньяка, убранную бабкой в буфет, откупорил под молчание Степана, налил полные стаканы.
Молча они выпили, Филатов в два приема, дед – в один. Взяв лопаты, отправились на погост, поросший соснами. Дед сам выбрал место, разметил могилу, и они, сняв пиджаки, стали копать, все глубже зарываясь в желтый песок. К вечерней заре могила была готова.
– И не положено с вечера копать, ну, да ладно, Бог простит... – устало выдохнул дед, когда они возвращались в деревню. За столом уже сидели старухи, по очереди читая, что положено читать над покойницей. Дед вошел первым, не крестясь, снял кепку, постоял, потом присел на лавку у двери. Юрий сел рядом, вслушиваясь в слова псалмов.
Упала ночь. По обе стороны гроба и на столе горели свечи. Мерцала под иконой лампада. Черным пятном выделялось на стене завешенное платком зеркало. Ходики молчали, остановленные кем-то из старух. В руках покойной виднелась бумажная иконка.
Вскоре Филатов задремал, прислонившись к стене, и так проспал до утра.
Его разбудил дед Степан, ладивший во дворе под навесом крест из двух дубовых брусьев. Солнце было уже высоко, прошел дождь, хотя небо было чистым только на горизонте – на западе собирались тучи. Бабок в комнате не было – упокоившаяся Ядвига лежала одна, словно дремала. Дед, отряхивая опилки с рубахи, спросил:
– Завтракать будешь? А то пошли до меня...
Юрий ополоснул лицо из ведра и отправился с дедом в его хату, захватив последнюю бутылку коньяка. Они позавтракали не спеша, поговорили о том о сем, и старик пошел запрягать коня. Филатов вернулся в дом Ядвиги. Постоял около покойницы. Едва отошел от гроба, в комнату вошли старухи. Пора было ехать на погост.
Они с дедом вынесли гроб во двор, поставили на чурбаки. Старухи покрестились и дали знак, что можно трогаться в путь. Перенеся гроб на телегу и закрыв крышкой, отправились. Степан шел сбоку, держа поводья, Юрий со старухами брел сзади. Вскоре под соснами показалась горка выброшенного из могилы песка.
– Прощайся, – сказала Филатову одна из старух. Он подошел к гробу, с которого сняли крышку, и отпрянул, увидев, что покойница открыла глаза. Это же увидели и остальные.
– Дурной знак, – закрестились старухи. – Скоро кого-то из нас к себе приберет... Пожди, нельзя с открытыми глазами-то...
Одна из бабок, семеня мелкими шажками, отправилась в сторону деревни и минут через двадцать приплелась назад зажимая в кулаке два тяжелых медных пятака. Протянула их Юрию:
– Накрывай ей глаза, парень, надо, чтоб родственник.
Филатов отступил на шаг, потом все же взял пятаки и, преодолевая липкое чувство страха, прижал монетами веки покойной. Гроб закрыли, дед заколотил крышку гвоздями. Потом они опустили гроб в могилу. Старухи бросили туда же какую-то сушеную траву, горсточку мелких монет и окропили святой водой из бутылочки. Перекрестились, пошептали молитвы и дали знак закапывать.
Над могилкой вырос холмик, увенчанный невысоким крестом. Постояв несколько минут, все медленно побрели в деревню.
Около дома дед сказал Филатову:
– Прибери в хате, стол поставь, бабы сейчас еду принесут, помянем Ядвигу. И в погреб залезь, там она на холоде самогон держала...
Поминали молча. И действительно, о чем говорить людям, век прожившим рядом, почитай, одной семьей. Только одна спросила Филатова, что он собирается как наследник делать с домом. «Пусть стоит», – ответил он. И больше ничего за весь вечер не сказал, только молча напивался на пару с дедом.
Глава 7
Филатов сидел за столиком аккуратной забегаловки на окраине Питера. Час назад он вышел из бани, где, заказав на два часа номер с парилкой и бассейном, привел себя в порядок и примерил купленный утром джинсовый костюм. Подбрил на щеках и шее отросшую бороду, попарился на славу и пожалел, что не купил билет на два банных сеанса – так хорошо ему стало после парилки, ледяного душа и рюмки коньяка.
Но когда банщица застучала в дверь, предупреждая, что осталось пять минут, Юрий был практически готов. Страх потихоньку растворился, борода и купленные темные очки делали его, как он надеялся, неузнаваемым.
... После похорон и поминок Филатов очнулся за столом, в пустой комнате, где еще чувствовалось присутствие покойной хозяйки. Голова гудела, было около четырех часов утра – то самое время, когда умирает большинство больных, обреченных людей.
Алкоголь еще не выветрился из головы, и Юрий, включив тусклую лампочку, зашатался, прикрывая глаза от света. На табурете, под портретами Ядвиги Ольшевской и ее отца, видимо сохранившимися с довоенных времен у кого-то из родственников, стоял стакан самогона, накрытый кусочком хлеба, и оплывшая церковная свечка. В буфете – стол был прибран – он разыскал остатки самогона, зачерствелый хлеб и домашнюю колбасу. Выпил, помотал головой, отдышался, посидел с минуту, уперев лицо в ладони... Зажег керосиновую лампу, стоявшую на полке, вышел во двор – было уже довольно светло – и полез на чердак, вооружившись железным шкворнем.
Почему-то Филатов был уверен, что должен открыть сундук, который не был ничем примечателен, разве что плотно, пригнанными досками и тонкими медными полосами. Инструмент не понадобился – замок открылся сам, едва только Юрий дотронулся до него: видно, не был заперт, просто дужку вложили в гнездо, где она и поржавела. Светя себе лампой, он заглянул внутрь. Сундук до половины оказался забит бумагой – старыми газетами, толстыми тетрадями, папками. В два приема Филатов перетащил все это в дом и до утра листал пожелтевшую бумагу, пахнущую пылью. Здесь были газеты – и где бабка только их откопала? – за 39-й, 41-й, 45-й, 53-й годы, отметившие вехи ее жизни. И – рукописи. Тетради, исписанные аккуратным почерком, не испорченным, как на диво, четвертью века лагерного рабства. В том, что это дневник Ядвиги Ольшевской, Юрий перестал сомневаться после первых же страниц. Целые тетради были заполнены стихами на белорусском, польском и русском языках – было их тут на хороший сборник. Стихи не отличались наивностью, свойственной начинающим поэтам и ударившимся в стихоплетство старикам. Это были выстраданные стихи; большинство их, начинаясь, как река с ручейка, с обобщенной, простенькой посылки, строка к строке набирали звучание, начинали бурлить, петь, молиться, в них порой звучал даже пафос.
Юрий поднял голову от стола, заваленного рукописями. Он аккуратно упаковал все бумаги – единственное наследство Ядвиги Ольшевской, плотно сложил их в опустевший рюкзак и армейский вещмешок, найденный в сенях. Там же, в фанерном шкафчике, разыскал молоток и гвозди. Доски стояли под навесом. Филатов выбрал подходящие по длине и стал заколачивать окна опустевшего дома. Когда закончил, вошел в дом, вытащил из кармана старинное кольцо, найденное в квартире Рашида, спрятал за иконой в щели между досками. Вынес во двор рюкзак и вещмешок с архивом, зашел к деду сказать, чтобы забрал оставшиеся припасы и запер дверь, вернулся, посидел последний раз за столом, выпил на дорогу остатки самогона и, не оглядываясь, мимо погоста отправился через лес в сторону шоссе.