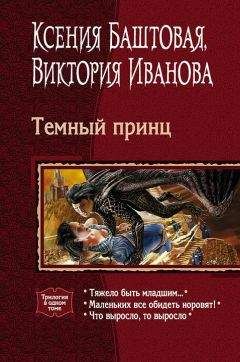Джон Ланчестер - Рецепт наслаждения
И именно в это время года, в один прекрасны день, пообедав классическим, от души приправленным чесноком окороком с фасолью, приготовленным своими собственными руками в Норфолке, в коттедже, который и теперь является основным моим обиталищем, я впервые смутно увидел художественный проект, которому предстояло перерасти в дело всей моей жизни. Лучи внутреннего света вдохновения были настолько неярки и мимолетны, что лишь самые чувствительные и тонко настроенные инструменты восприятия могли обнаружить их присутствие, доступное только самому острому ночному зрению, какое можно себе вообразить, подобно свету, отбрасываемому в глубокой пещере не фонариком или свечой, но волшебным свечением разлагающегося мха.
— Я прогуливался по саду после обеда, — не так давно вспоминал я, отвечая на вопросы некоего интервьюера, когда мы вместе в молчаливом согласии наслаждались изысканной гармонией апатичной прогулки между яйцевидной формы клумбами в том самом саду. — Ивовые пряди наливались зеленью. Дул легкий ветерок. И мне вдруг пришло на ум, что сад является метафорой искусства, которое, согласно замыслу автора, не должно казаться таковым.
— Не уверена, что понимаю, о чем вы, — сказала моя очаровательная собеседница с притворной наивностью и коварством маленькой шалуньи, уже тогда проявляя свое умение наводить меня на нужную тему и выведывать ход моих мыслей, — умение так необходимое личному секретарю или Босуэлу, — не то чтобы она сама хоть чем-нибудь (и менее всего внешне) походила на этого тучного, беспринципного шотландского журналиста. При разговоре она наклонялась вперед и смотрела на меня снизу вверх, чуть склонив головку, сквозь тонкую завесу спутанных ветром светлых волос, что увеличивало волнующую силу ее взгляда точно так же, как движения легкого летнего платья усиливают, плавно перетекая и одновременно скрывая и открывая глазу, совершенную форму и чувственное сияние женской ножки. Глаза у нее были карие (у всех карие глаза), но с зелеными, похожими на тигровые полосы, бликами.
— Мои мысли в последнее время вращаются вокруг связи между садовым искусством и более общими принципами эстетической идеологии, — отвечал я в присущей мне чопорной-но-с-хитрецой-и-не-без-нотки-чувственности манере. — Центральной идеей создания сада является воссоздание образа природы при помощи высочайшего уровня искусственности, не позволяя при этом наблюдателю в полной мере догадываться о присутствии здесь искусства. Точно так же сад камней в дзенском храме в Киото производит такое сильное впечатление благодаря собственному отсутствию. Это не столько «чем меньше, чем лучше», — надеюсь, вы простите мне мой иронический взмах пальцами в воздухе,[102] — но в том, что меньше и есть лучше, мы имеем дело с максимализацией намеренного опущения.
Белизна цветочных лепестков, чистота возлюбленной, имманентная весна.
— Я не совсем понимаю, какое это имеет хоть к чему-нибудь отношение, — сказал мой отважный эмпирик. К этому моменту мы уже стояли неподвижно; я побудил ее двинуться дальше, держа руку в полудюйме от ее локтя и указывая бровями в направлении клумб с геранью.
— Ах, но какое хоть что-нибудь имеет отношение хоть к чему-нибудь? — произнес я тоном настоящего мошенника с континента. — Именно тем иссушающе жарким днем я впервые всерьез задумался об эстетике отсутствия, о лакунах. Модернизм внушил признающему свою ответственность создателю, что некоторые пути в искусстве ему уже заказаны. Писать, как X., рисовать, как Y, создавать такую музыку, как Z., — да ведь это одно уже свидетельство несостоятельности, нежелания занять значительное место в искусстве настоящего.
От этой мысли легко перейти к осознанию, что значимость художника, мера его таланта и его достижений — геодезическая съемка, позволяющая оценить высоту конкретной груды камней, — это как раз то, что кажется ему невозможным, невыполнимым, недоступным, запретным, недостижимым, закрытым для него тем, в чем ему отказано. Человека искусства следует оценивать, основываясь на том, чего он не делает: художника — по брошенным и неначатым полотнам, композитора — по протяженности и насыщенности его молчания, писателя — по отказам публиковать свои произведения или даже запечатлевать их на бумаге. Быстро приходишь к пониманию, что важнейшей частью oeuvre [103] любого художника является работа, о которой он понимает, что браться за нее уже невозможно. А к тем художникам, что слепо вступают на эти окутанные тьмой невежества дороги посредственности, невозможно испытывать ничего, кроме брезгливого, смешанного с жалостью презрения, какое испытал бы великий кулинар, бежавший в чужой одежде от революции, путешествующий инкогнито, вынужденный остановиться на деревенском постоялом дворе, становиться свидетелем того, как хозяйка явно губит свою стряпню, передержав ее на огне из-за неосведомленности об элементарных методах готовки: говядина у нее обуглилась, суп водянистый с комками, овощи вялые, гигиена в зачаточном состоянии. Однако он не может продемонстрировать свои знания, поскольку тогда будет узнан и лишится жизни. Так некогда невежество маркиза де Шамфора, убегавшего от Французской революции, привело его обратно — в тюрьму и на гильотину (он проговорился, что для омлета требуется дюжина яиц). Таким образом, творения художника, созданные им в полном смысле этого слова — те, что он наиболее тщательным образом продумал и понял, — это те творения, которые он и не пытается осуществить. Художник живет с идеей, дает ей кров, исследует ее, проверяет до тех пор, пока не находит причину, почему эту идею невозможно воплотить. И тогда, несомненно, он понял ее более полно, он в более истинном смысле создал ее, чем его менее умный Doppelgänger,[104] который фатально и беспечно совершает наивную, и конечно, очаровательную, но все-таки идиотскую ошибку, на практике доверяя свои мысли бумаге, холсту или фортепиано.
— Ага, — сказал мой восхитительный инквизитор, пытаясь изобразить равнодушие и безразличие, что острому взгляду только еще яснее открывало ее нарастающий взволнованный интерес, — но в чем тогда различие? То есть, каким образом кто-то узнает о книгах, которые ты не пишешь, о скульптурах, которые ты не лепишь, и так далее? Чем это все отличается от того, чтобы просто просиживать задницу?
Я принял этот вопрос как верное доказательство того, что наши мысли текут в одинаковом направлении.
— О сокровенная принцесса-мысль, — прошептал я, — что проходит среди нас неузнанная! Кто знает — кто, кто знает — куда, кто знает — откуда? Ваше замечание волнующе-проницательно. Гений близок к надувательству; взаимосвязь между интересностью и жульничеством «тревожно» тесна. Но возможно, есть некая выгода в том, чтобы размывать границу между этими понятиями, как есть выгода в том чтобы размывать границу между искусством и жизнью.
В глубине сада есть мраморная скамья, бодряще-прохладная, перед которой расстилается водная гладь, слишком незначительная, чтобы стать омутом, но она все-таки больше, чем кишащий золотыми рыбками прудик с лилиями в банальном деревенском саду. Осока придает ей впечатление нетронутости. Тростник и камыш приветственно кланялись нам, пока мы устраивались на холодном камне.
— Возьмем недавний случай, о котором писали газеты. Семейная пара, специализировавшаяся на этой дисциплине с названием, которое буквально противоречит само себе — «перформанс», приступила к новой «работе». Они должны были отправиться в путь с противоположных концов Великой Китайской стены с тем, чтобы встретиться посередине. Их «работа» должна была «касаться» идей разлуки, трудности, расстояния, существования категориальных различий между произведением искусства и проектом, который является частью жизни, несостоятельности традиционных форм самовыражения. Небольшие (или большие на самом деле) приключения, которые поджидают их en route[105] — проблемы с питанием, необходимость найти дорогу там, где отсутствуют участки стены, смешные недоразумения и непонимание со стороны китайцев и самих путешественников, — все это должно было стать частью «работы».
Таково было намерение. Но развязка получилась иная, и она рассматривалась повсеместно как полное фиаско всего предприятия. С мужчиной, участвовавшим в проекте, голландцем, приключилась, похоже, coup de foudre,[106] и он влюбился в молодую китаянку в деревне, через которую проходил. Их глаза встретились над общинной чашкой риса или что-то в этом роде. И в одно мгновение исследователь понял, что это его судьба. Он оставил свою «вторую половину», оставил «перформанс» и переехал жить в эту деревню, дожидаясь, пока власти не разрешат ему жениться на девушке. Его незадачливая бывшая возлюбленная бросила проект, отправилась домой в родной Гейдельберг и занялась важным делом — принялась раздавать обличительные интервью о своем недавнем партнере.